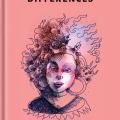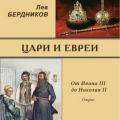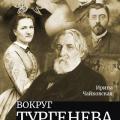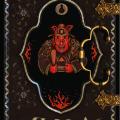Наши старинные бостонские друзья Боря Фурман и Вика Коваленко под руководством Сергея Линкова и при активном участии музыканта А. Зильберберга поставили поэтический спектакль и прислали его видеоверсию. В центре спектакля - драматическая судьба русского поэта Бориса Рыжего, добровольно ушедшего из жизни в 26 лет.
Книжное обозрение
Неделя культуры с Ириной Чайковской
Сорокапятилетний англо-американский режиссер Фил Барантини снял фильм о подростках, в центре которого расследование убийства тринадцатилетним Джеми одноклассницы Кэти. Убил ножом, нанеся множество ран и оставив жертву на месте преступления. Мне захотелось принять участие в обсуждении фильма не потому, что он возбудил не шуточный интерес в разных кругах многонационального мира, просто картина меня захватила, к тому же в ней затрагивались всегда волновавшие меня темы - детской души, воздействия на нее школы и родителей...
Аудиокнига Ирины Чайковской "Вольный ветер". Читает Марк Чульский
Аудиокнига состоит из трех рассказов и повести: 1. "Ворожея", 2. "Симонетта Веспуччи", 3. "Возвратная горячка" и "Повесть о Висяше Белинском в четырех сновидениях": 1. Никанор, 2. Мари, 3. Сашенька, 4. Свобода. В центре рассказа "Ворожея" судьба писательницы, классика украинской литературы Марии Маркович (Марко Вовчок). В рассказе "Симонетта Веспуччи" говорится о трагической судьбе Вареньки Богданович, воспитанницы Варвары Тургеневой. "Возвратная горячка" погружает нас в атмосферу второй половины 19 века, в центре - фигура Павла Анненкова.
(В России для прослушивания используйте VPN).
Русский язык от Марины Королевой
О трудностях русского языка - легко, увлекательно, коротко. Марина Королёва, филолог, радио- и телеведущая, писательница, драматург, филолог
В блогах
Страничка юмора
Подписка на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей журнала ЧАЙКА и получать избранные статьи, опубликованные за неделю.