Разбавленная сметана
В молочную меня посылали с малолетства. Не только меня, вообще детей принято было посылать за покупками. Я недавно пересматривала фильм Вуди Аллена “Эпоха радио” – в нем героя, самого Вуди, маленького, славненького, рыженького, похожего на меня в детстве, тоже посылают с поручениями, то есть не только у нас. Вуди тоже, как меня, и любили, и наказывали, и куда-то с собой брали – на развлечение не по возрасту, – наверное, это такая еврейская эмоциональность. Так про молочную. Я цен до денежной реформы 1961 года не помню. А с 1961 – все цены скажу наизусть. Цены на молочные продукты, да и на мясные и хлеб, до моего отъезда не менялись, они в меня врезаны. Бутылка молока с серебряной фольговой крышечкой стоила 30 коп. И кефир с зеленой также.
Но кефира опять нет, фиолетовый ацидофилин 31 копейку – а кому он ацидофилин нужен?! Противный. Опустевшую бутылку мыли и, накопив несколько штук, ходили бутылки сдавать – 15 копеек штука. С заднего входа молочной было окошечко для сдачи молочной посуды. Часто стояла очередь, а иногда придешь – закрыто, объявление “Нет тары”. Тара – это материал для упаковки, в данном случае ящики. Вот и тащишься с бутылками назад. Интересно, случалось ли такое с Вуди.
В начале 1960-х, молоко стали в пакетах продавать, а на разлив в Москве совсем не было. Я помню, что при сдаче посуды иногда фигурировали и баночки. Ленинградцы рассказывают, что у них бывали в продаже сливки в маленьких баночках – дорого, но детям покупали. Не только послеблокадным детям, но и послеэвакуационным – они ведь все равно истощенные. У нас не было, да и сметану в баночках я в продаже не заставала. Пустые баночки всегда были дефицит – они и для анализа нужны, и вообще стакан заменят. Хорошо, если из-под майонеза осталось или покупное варенье съели. А бывало, у кого родные в лаборатории – оттуда несли. У нас вынести с работы себе нужное – легко было, мы совестью не мучились. Помню, марлю, вату – ничего ведь не было – мне знакомая из поликлиники приносила.
Ну, представим себе вот пришли вы в магазин. В магазине есть торговый прилавок и касса – я ведь про досупермаркетовскую эру, теперь бывает не так. В наше время архитектурная организация интерьера не ставила себе задач заставить покупателя купить больше. Вот пришли вы в магазин, и – надо же – сметана есть. Разливная, конечно, не в баночках. Но вы ведь не вчера родились, у вас баночка с собой с утра в сумку положена, если вы собирались после работы зайти в молочную. Бывает сметана по рубль пятьдесят и бывает по рубль семьдесят, – ценообразование по разной степени жирности.
Сначала стоишь в очереди к прилавку – нельзя сначала пойти в кассу и выбить чек, потому что неизвестно, сколько продавщица своим половником из бака зачерпнет и вольет тебе в баночку. Она сначала твою банку взвешивает, ладно, что вес завышает – да ладно, пусть обвешивает: тебе копейки, а у нее за день наберется семью прокормить, надо ж и о ней думать. Она сметанку наливает (ох, жидка сметана, ох, разбавили вволюшку), говорит тебе цену, которую запоминаешь, боясь перепутать, нервничаешь, идешь в кассу, пробиваешь (тоже слово тех – моих – времен), потом чек несешь к прилавку и получаешь товар. Но вот не помню я, может, кто подскажет, а себе продавщица эту сумму рядом с баночкой записывала? Как она знала, чья банка чья, что ее не обманывают? Не помню.
Потом тебя пускать не хотят, очередь-то стоит новая, “я уже стояла, мне только взять” – “всем только взять”. Сметану только так, а сыр, бывало, выбивали сначала: «мне, пожалуйста, двести грамм российского». Потом у прилавка повторяешь, уточняешь: «двести грамм российского кусочком» или «нарезать, пожалуйста». Если «нарезка», продавщица могла добавить или отложить, чтобы по весу получалось. А если кусочком, а кусочек больше получился, идешь в кассу добивать. Если в кассу очередь очень длинная, ноешь-просишь, чтоб второй раз не стоять: «Да я стояла, мне восемнадцать копеек за сыр добить, у меня без сдачи». Изредка и пускали.
Были ли очереди приятные? Если по много часов стояли и нервничали, что товар кончается, что нам не хватит, и бегали в соседний подъезд греться, там бывало приятно. Разговоры всякие, как в поезде.
А что дают?
Промтовары: обувь, одежда, – лучше не вспоминать, ничего не было. Вот если что “выбрасывали” – неважно что, например, ночные рубашки какие-нибудь или мужские кальсоны, вот тут и была долгая очередь, вот тут мы и наслаждались общением. Сначала спросишь, кто последний, тебя поправят, мол, “не последний, а крайний”, встанешь, а потом уж поинтересуешься, “что дают?” Платьица – чьи-то мамы–бабушки умели сшить, переделать из старого, для меня даже портнихе отдавали.
Обувь – полная катастрофа. Но были комиссионки. Комиссионный магазин – это торговая точка, где продают новые или бывшие в употреблении товары, получая с каждой продажи комиссию – не помню, сколько брал себе магазин (процентов 20?). Владелец вещи сдавал ее, если его устраивала цена, которую товаровед комиссионки предлагал ему. Получал квитанцию и ждал продажи вещи, деньги магазин отдавал ему через два дня после продажи. Откуда был товар у сдатчика, мы не знали. Наверняка, “органы” это проверяли – всегда волновались, чтобы кто-то случайно не зажил хорошо, но, с другой стороны, и сами кэгэбэшники, наверное, были среди сдатчиков, что-то на продажу из-за границы привозили, тоже хотели повысить свой жизненный уровень.
У нас лет семьдесят назад такая была история. Катюша, моя как бы тетка, из Ленинграда погостить приехала, у нее обуви вообще никакой не было, не знаю, в чем ходила. У меня есть фотография конца 1956 года – мама со мной идет по двору. Снег, холодно, а мама – ну, не то, что в босоножках, но в очень открытых туфлях. А у Кати и таких не было. Моя мама повела Катюшу в какую-то комиссионку на Сретенке.
Видят туфли – на размер больше, но очень хорошие. Дороже, чем они собирались покупать, хотя и на ту цену, за которую собирались купить, у них все равно денег не было. Мама позвонила из телефона-автомата Евгении Львовне Минц, муж которой, радиофизик, был тогда членом-корреспондентом (в потом и академиком). Евгения Львовна велела заехать к ней за деньгами. Минцы тогда жили на улице Горького (на Тверской) – напротив Центрального телеграфа. Не через Горького, а по той же стороне. Большой такой дом, красный гранит – говорят, что немцы в 1941 г. пригнали к Москве несколько вагонов с блоками из этого финского гранита, думали строить себе памятник. Сам Берия велел Минцам туда после эвакуации переехать (вообще-то Александр Львович под Куйбышевом не совсем в эвакуации был, а скорее в шарашке).
Катя сторожила выписанные туфли – вполне могли кому-то другому продать, хоть и выписанные, а Наташа помчалась к тете Жене на троллейбусе. Вроде бы девятка ходила по Сретенке. Потом обе поехали к тете Жене показывать туфли, дрожали: а вдруг все-таки тетя Женя недовольна будет? Они обе были молоденькие, обе были сиротки: война, блокада – по-разному, но не надо думать, что государство помогало: никаких компенсаций им не выплачивало. Бывшие друзья родителей, тоже отнюдь не все поддерживали, даже ближайшие. Минцы часто выручали. Конечно, они материально жили на совсем другом, чем мы, уровне, но тоже не так, чтобы “до бесконечности”, деньгами не бросались. А уж как они были “под колпаком”, это даже я, совсем маленькая, замечала.
Хочу пояснить, что такое туфли «выписанные». У продавца промтоваров имелась специальная книжечка квитанций, размером примерно 10 на 12, под верхнюю квитанцию подкладывается копирка. Продавец (чаще продавщица, конечно, женский род) пишет наименование товара, артикул, цену и время, когда выписана квитанция. Ты получаешь первый экземпляр и с ним идешь к кассе платить. А второй экземпляр закладывают в выписанную тобой вещь. У тебя есть полчаса на оплату – подумать или денег достать. Если не успеешь, вещь уже не считается выписанной и ее отдают другому, который частенько стоит и ждет в надежде, что ты не возьмешь. Товаров мало было, не хватало на всех. Иногда ходили к заведующему, просили продлить срок выписки: мне домой за деньгами, я за полчаса не обернусь (в смысле не доеду туда и обратно). Или для надежности оставляли у прилавка подругу или ребенка (например, меня, когда мама по пути с работы заходила со мной в магазин), но в данном случае Катя сама осталась, пока мама носилась стремглав.
Приоделись и пошли за мясом
Ситуация с промтоварами изменилась, когда в середине 60-х появились сертификаты и магазины, в которых на них вещи продавались – не то, что изобилие, но можно подобрать что надеть. Моей однокурснице году примерно в 1970 купили красный брючный костюм с золотыми пуговицами – она потом написала в коротком мемуарном очерке, тогда, естественно, не рассказывала, что это был подарок от Н. Я. Мандельштам, вдовы великого поэта. Говорят, что Надежда Яковлевна очень с сертификатами была щедра, многих хотела порадовать. А мне на деньги американских родственников купили хоть и синий, но такой же костюм, потому что ассортимент и в сертификатном магазине был не велик. Я тоже его происхождение в то время не афишировала. Еще мне как подарок от этих родственников купили дубленку, а нашей с мамой общей подруге купили дубленку на свекровин гонорар.
С продовольствием же наоборот становилось всё хуже и хуже. Как будто промтовары и продовольствие – сообщающиеся сосуды: раз появилось то, то это уж совсем исчезло. И вот с этой подругой, у которой замечательная свекровь, мы ходили добывать мясо в соседний магазин “Комсомолец”. Не знаю, сыграла ли ее дубленка роль, или природной красоты и обаяния хватило, но она приглянулась в “Комсомольце” мяснику.
Он поверил, что она не выдаст. Она заходила в магазин, он давал ей то, чего в магазине не было, а у него под прилавком отложено, и она с полными сумками и дрожа от ужаса, что заграбастает нас Отдел по борьбе с хищениями и посадят, выходила с черного хода, где я, в своей опять же дубленке, дрожала на стреме и для принятия полагающейся мне доли. Потом мы звали в гости всех друзей, и они у нас отъедались.
Большим успехом пользовалась баранья нога. На гарнир – всё та же картошка. Конечно, с промтоварами, хоть и лучше стало, но все-таки не стало свободно. Например, когда мой беременный живот в мою дубленку не влез, я не могла купить себе что–то большего размера: ничего не было, не говоря уж о деньгах. Та же замечательная свекровь дала мне свое пальто поносить.
Роль дружбы в той нашей жизни была какая-то масштабная: и величественная, и объемная, и прямо не знаешь, как назвать, и не надо думать, что за этими бытовыми заботами и взаимовыручкой наша дружба лишалась духовной насыщенности.
Заказы на Алабяна
Одним нелегальным мясом из “Комсомольца” мы все-таки не наедались. Надо было думать, как доставать другие продукты. А тут – в начале 1980-х – власти организовали институт продовольственных заказов: торговые организации периодически привозили продукты так называемого повышенного спроса на места работы. Поскольку члены Союза писателей не имели общего места работы, их прикрепляли к магазинам по месту жительства, где раз в неделю они могли – честно отстояв в очереди (по много народа на один магазин прикрепляли) – покупать продукты по списку, определенному на эту неделю («заказы»).
Дополнительных продуктов не было, но и не взять что–либо тебе из данного набора ненужное было нельзя – сформированный заказ. Я работала в Госфильмофонде, в Белых столбах – это область, нам не привозили, а мама была членом групкома литераторов, а не Союза писателей, – мы попали меж стульев, не имея на заказы прав. Друзья и соседи с нами делились.
Посылали меня, молодую, в гастроном на улице Алабяна, это у Сокола, за несколькими заказами – на всех, а потом решали, кто что из своего заказа может отдать нам. Я легко несколько заказов несла, они не отличались тяжестью. Стандартный набор: палка полукопченой колбасы, консервы печень трески, банка консервированного горошка, банка майонеза, пачка чая (все хотели индийского – “со слоном”, но чаще выдавали краснодарский) и пачка или даже две печенья “Юбилейное”.
Представляете, какой с этим печеньем казус вышел. Оно впервые было изготовлено в 1913 г. в Москве на кондитерской фабрике товарищества «С. Сиу и Ко» (при национализации, переименованной в “Большевик”). Это был подарок русскому народу в честь 300-летия династии русских царей Романовых. Мы, по глупости, думали, что это к какому-то-летию Великой Октябрьской выпустили на фабрике «Большевик».
И вот сравнительно недавно покупаю я это в Израиле “привозное” печенье в сети наших израильских русских магазинов – ностальгия-то мучает: всё тоже, упаковка желтая с красненьким, печенье твердое, якобы сахарное, невкусное, – а я не ради вкусности брала. Разворачиваю и вижу на каждом прямоугольничке пропечатано “100 лет”. То есть “Юбилейное” оно, оказывается, потому что его в 1913 году выпускать начали. В 2013 году решили отпраздновать 100-летний юбилей выпуска печенья, а без Романовых решили обойтись.
Зачем литератору писчая бумага?
Работа над семейным архивом дала мне возможность наблюдать за постоянством дефицита в годы советской власти. В 1940 году мой дедушка пишет, что свою книгу “Антоша Чехонте” закончил и сдал в издательство, но неизвестно, когда она выйдет, потому что бумаги нет. Бумаги не было не только для печатания тиражей, но и для повседневной жизни (про туалетную не говорю – о ней, вернее, о ее отсутствии, и так бесконечно вспоминают). В начале 1950-х Корней Иванович Чуковский учит работавшую у него секретарем мою маму экономить бумагу, печатать убористо.
В те же годы Лидия Корнеевна Чуковская заходит в редакцию “Литературного наследства”, чтобы “выклянчить” (ее слово, передающее унижение, которое она при этом испытывает) у секретарши бумаги для перепечатки писем Бориса Житкова, которым она тогда занималась. В 1978 году – боже, сколько лет прошло! – моя мама хвастается удачей: у нее есть и бумага, и лента для пишущей машинки. Бумага и лента не просто куплены в магазине. Бумагу в 1970-е годы выдавали в ателье Литфонда, которое рядом с метро Аэропорт находилось, только членам Союза писателей, и кто-нибудь из соседей давал нам для этой цели свой членский билет. А ленту для пишущей машинки по маминой просьбе прислал ей тогда (1978) из Парижа ранее высланный из СССР крупнейший филолог Е.Г. Эткинд – в магазинах тоже было не достать.
Наверное, надо напомнить, что слово “печатать” изменило сейчас свое значение. Сейчас оно относится к распечатке на принтере. Мы под “напечатать” имели в виду “набрать” на пишущей машинке. (Можно сказать “напечатать” в смысле “опубликовать”, но мы не про то.) В наше время “печатаешь” – это нажимаешь на клавиши клавиатуры. Если сейчас нажимаешь на клавиши компьютерной клавиатуры, текст можно прочесть на экране.
С пишущей машинкой было не так: ты нажимал на клавиши и соответствующий молоточек с вырезанной на нем буковкой (правильно сказать: литерой) ударял по валику, на котором была заряженная в машинку бумага, автоматически двигающаяся. Обычно закладывали три листа бумаги, переложенных копиркой, – больше плохо читалось, но самиздат для скорости распространения печатали и с четвертым “слепым” (совсем плохо читающимся) экземпляром. Больше четырех страниц бумаги плюс соответственно три листа копирки в машинку не заряжалось. Отсюда у Галича: “Эрика берет четыре копии”. Сейчас читаю пояснения, что Эрика – это именно такая машинка, которая брала четыре копии, или что это именно та машинка, на которой перепечатывали литературу, запрещенную в СССР по цензурным, идеологическим и др. соображениям. Это неправильные формулировки. Все известные мне тогдашние машинки больше четырех экземпляров не брали, а “нелегальное изготовление и распространение” осуществлялось у нас на тех машинках, которые были под рукой.
Возвращаясь к ленте. Она вставлялась в маленькие бобины, похожие на бобины катушечного магнитофона. Если между бумагой и молоточком не была заправлена эта пропитанная чернилами лента, то буква на бумаге не отражалась – сколько по клавише ни бей. Так что лента для пишущей машинки была вещь совершенно необходимая. Лента бывала однотонная (фиолетово–синего или черного цвета) или состоящая из двух горизонтальных половинок, одна из которых была красной. Красный служил только для развлечения, в типографию красную машинопись не принимали. Ужасно, бывало, обидно, если заграничные друзья или родственники от лучших чувств присылали нам двухцветную. Двухцветную нельзя было перевернуть головой вниз, как мы делали из экономии: когда одна половина истреплется до дыр, пользовались второй. Вот копирка, по–моему, дефицитом не была, а может быть, мне это только кажется.
Каждая пишущая машинка печатала со своими особенностями: у какой-то заедала клавиша, где-то литера не прочищена. Кроме того, у каждого человека удар на клавишу обладает неодинаковой силой. Так что машинопись, хоть и несильно, но всегда рознится. Этим пользовалось КГБ, устанавливая, кто печатал антисоветские документы. Повальной регистрации пишущих машинок не было (машинки, находящиеся в учреждениях, конечно, были на учете), но если КГБ считало нужным, то справлялось. Я говорю об этом настойчиво, потому что читала в Интернете – у людей тогда еще и не родившихся, – что всё это якобы домыслы диссидентов, что никто за ними не следил, и их рукописей и машинописей не сличал. Не домыслы и не фантазии.
Бумага нужна литератору вовсе не только, чтобы свои сочинения пописывать. Много есть для бумаги нужд и применения. Вот, например, академическое издание произведений и писем А.П. Чехова, в котором моя мама участвовала как текстолог и комментатор. Комментарии к этому изданию составлялись новые, а тексты Чехова (за исключением некоторых) переиздавались. Их не перепечатывали на машинке, их брали из предыдущего издания, а потом правили, сверяя с оригиналом. Два экземпляра предыдущего издания вынимались из переплета и разброшюровывались (то есть аккуратно разбирались на листы).
Полученные страницы по отдельности – правая и левая (поэтому нужны были два экземпляра) – канцелярским клеем наклеивались на бумагу А4 для пишущей машинки. Так и называлось – расклейка. На бумажных листах нужно было оставить одинаковые поля. В наклеенном тексте корректорскими значками отмечалось, что есть исправление, а само исправление (правка), объяснялось под соответствующим значком на полях бумажного листа.
Большие вставки печатались на машинке и подклеивались внизу того же листа или прилагались на отдельном листе. Номера страниц проставлялись в правом верхнем углу сначала карандашиком, чтобы можно было стереть и переделать, а если уж что-то вставлялось в окончательный экземпляр, то к номеру добавляли а, б и т.д., и тогда на предыдущей странице нужно было пометить, например, «368, есть 368а».
Объемистую рукопись вкладывали в папку на тесемочках, и так она передавалась по редакторско-издательским инстанциям, а потом уж шла в типографию. Но ни издательство, ни типография никогда до последнего момента не торопились – у них был свой план, почему-то отличный от того, который сообщался автору (в данном случае комментатору). И вот у мамы 960 страниц готовой расклейки лежали-лежали, а когда наконец типография согласилась их взять, выяснилось, что бумажные страницы пожелтели. Желтые не приняли, надо было всё заново переклеивать и правку переносить, а сначала бумаги такое количество доставать.
Окончание следует



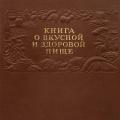

Добавить комментарий