Соблюдение пропорций
Опубликовала я какое–то мелкое воспоминание про зимнее пальто – про то, что трудно было в той нашей жизни с промтоварами, да и зарплаты – в моем рассказе речь шла о враче – тоже не радовали своей величиной. Получила на свою публикацию отзыв критический: читатель считает, что врачи были не бедны, а вот инженеры действительно. Не буду сейчас искать по статистическим справочникам, кому было хуже всех. Про тех, кому было лучше, мы сами знаем и добрым словом их не поминаем. Я лучше продолжу вспоминать и про заработок, и про пальто. Вроде повседневность – тема приземленная, но мне интересно. И не всё же о том, что поэзия у нас была самая лучшая в мире – вот уж чистая правда: у нас поэты были великие, и даже те, кто был не великий, все равно был замечательный. Однако есть (в смысле кушать) и одеваться в сезонное всё равно хотелось.
Моя бабушка – мать отца – говорила, что, если готовить с правильной пропорцией, то из килограмма мясного фарша должно получиться шестнадцать котлет. И до сих пор, если у меня получается семнадцать, я испуганно размышляю, переложила ли я хлеба или не занизила ли габариты. Но и шестнадцать у меня получаются разными, неравноценными. Хотя я очень стараюсь.
Устриц в натуре не видели
Я родилась вскоре после отмены карточек на продовольственные и промышленные товары, а помню всё только года с 1952, даже какие–то сообщения о Корейской войне, доносившиеся из вечно работавшего у соседей по коммуналке радио, помню. Расстрел Еврейского антифашистского комитета не помню, хотя сейчас кажется, что и дома, и у бабушки, и в детской группе, состоявшей исключительно из евреев, стоял тяжёлый мрак, с этим связанный. Солнечных дней из раннего детства не помню. А Дело врачей не знала фактически, но чувствовала, так как в мои вечно болеющие уши перестала смотреть знаменитый “ухогорлонос” Валентина Александровна Фельдман, – ее отца посадили (вышел живым!), а ее уволили с работы.
На самом деле для меня, как и для многих советских граждан, главным событием 1952 года стал выпуск массовым тиражом “Книги о вкусной и здоровой пище”. Многие думают, что книга вышла тогда впервые, но это было переиздание.
Раньше ее было просто не достать, а тут 500 тысяч. Все равно в магазинах не валялась – население-то было миллионов под двести, ну и на экспорт сколько пошло. Бабушка работала в типографии газеты “Московская правда”, тогда эта типография называлась «Первая образцовая типография им. Жданова» (да, Жданов – это именно та сволочь, знакомая нам по идеологическому постановлению 1946 г.), где книга печаталась, так что у них распределяли среди сотрудников.
С коридором этой типографии знаком, можно сказать, каждый – по нему бежит мать героя в фильме Андрея Тарковского “Зеркало”, узнав, что пропустила ужасную опечатку. По этому эпизоду можно учить зрителя, как важно внимательно смотреть на жизнь и на кино, не пропускать никакого изображения. В фильме не сказано, какая была опечатка, но на секунду – пока она бежит – показан портрет Сталина. Догадайтесь, какую ужасную опечатку можно было сделать в его фамилии. Недогадливым подскажу: вместо т было напечатано р, это в фильме не объясняется, надо понять самому – всё про жизнь надо самому понять. Если вам сейчас захотелось проверить, умеете ли вы правильно смотреть кино, возьмите, например, фильм П. Павликовского “Ида” и ответьте на вопрос, почему есть уверенность, что тетя, упав, разбилась. Но это я так, заодно.
Говоря о книге, но отвлекаясь от темы еды, замечу, что распространенное мнение о том, что в Советском Союзе книги были дешевы и доступны – неправда. Стоили книги до постперестроечных лет в госторговле действительно очень дешево. Иногда, глядя случайно на пропечатанную на обложке цену книжек, еще оставшихся у меня от прошлой жизни, поражаюсь: копейки книги стоили, каждому по карману. Но по этой законной цене купить книги можно было только если каким-то чудом, случайно. Просто в книжном магазине хороших (то есть тех, что хотелось) книг не было. В 1930-е гг. книги для дочери мамин "доставал", имея связь с издательством Детгиз.
А в моей молодости мифологический словарь или “Процесс” Кафки, как и сборники стихов в серии “Библиотека поэта”, в Книжной лавке писателей выдавали по предъявлению членского билета Союза писателей. В рядовые книжные магазины такие книги не поступали. Мы обычно обращались к американским родственникам или друзьям, которые водили нас в книжный валютный магазин.
За детские книжки для маленькой дочки я отваливала “книжникам” просто безумные деньги. Подальше от Москвы с книгами было лучше, но не с детскими. В книжном на станции Белые столбы (52 км по Павелецкой дороге) детские книги нельзя было достать, но что–то хорошее взрослое, заведя большую дружбу, тоже выражающуюся в денежных знаках, с продавщицей, моей подруге перепадало. Я помню ее счастье от приобретения книги “Возвращение в Брайдсхед” Ивлина Во. Многие советские люди оказались любителями собраний сочинений – подписка на них была настоящим безумием, в какой–то момент – в 1970-е – ее можно было осуществить только предъявив талон, что ты сдал двадцать килограмм макулатуры (бумаги на переработку). О книгах, изданных за границей, можно не говорить, так как у них не было советской цены и их покупка вообще была незаконной, но уж если очень захотелось, платили больше зарплаты (потом реально голодали).
Вернемся к “вкусной и здоровой”. Она многократно переиздавалась и ее содержание менялось в соответствии с ситуацией в стране. Во времена развития рыбной промышленности, в книге широко рекламировались блюда из рыбы. После запрета на вылов осетровых количество рецептов из них резко уменьшилось – поздно, осетрина к нам не вернулась. В 1960-х годах, когда в стране начались проблемы со всеми продуктами – то есть проблемы были всегда, но тут был специфический кризис, связанный с хрущевскими перегибами с посадкой кукурузы, – рецепты упростились, внимание стало уделяться вопросам домашнего консервирования. Главное, что цитаты из сочинений вождей пролетариата приходилось постоянно изымать или заменять в соответствии с внутренней ситуацией. Но в 1952 г. было еще много не только Сталина, но и Берии – очень ценное издание. На титульном листе как эпиграф, проясняющий замысел, стояли слова Сталина: “Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни".
В брежневскую пору эпиграф сняли, а в повседневной жизни заменили анекдотом “На собрании Леонид Ильич <Брежнев> говорит, что с мясом в ближайшее время будет туговато. Голос из зала: ничего, будем работать как следует. И с молочными продуктами, с маслом и сыром тоже будет туговато. Голос из зала: в две смены будем работать! Да и с овощами, фруктами плохо, рабочих рук не хватает. Голос: в три смены, круглосуточно будем работать! Тогда Леонид Ильич говорит: товарищ, пожалуйста, выйдите на эстраду, представьтесь залу, расскажите, кто вы по профессии. – Я директор крематория.”
А в детстве – лежишь себе у бабушки на Тверском с компрессом на ухе, рассматривая замечательные иллюстрации книги (в моих детских книжках таких не было), играя с золотой ленточкой, вложенной как закладка (я впервые узнала ее приятно звучащее название – “ляссе”) – и в голову, естественно, не приходит, что эта книга – наш советский Голливуд. Мечта, вранье, сказка. Не надо ведь верить анфиладным декорациям американских фильмов 1930-х гг., не жили ведь в Нью-Йорке в таких огромных квартирах с балконами с видом на весь город и залив, вот и мы из осетринки столько не готовили и целых поросят так красиво на блюде не раскладывали.
Эти голливудские хоромы, вместе с богатством стола со специфически советской – буквально из “Книги о вкусной…” взятой – кулинарной тематикой воссоздавались и в наших фильмах. Иногда соцреалистически фальшиво, а иногда с пародийной иронией, как накрытый стол в “Служебном романе” или в “Начале”, где Паша (И.Чурикова) угощает Аркадия (Л.Куравлев): “Салат, рыба, птица, икра”. Несмотря ни на что, нам все-таки хотелось верить, что в Нью-Йорке живут полной и светлой жизнью, пока у нас крутят котлеты, ругаясь, что нож прикрученной к столу мясорубки (“тряпочку под винт подложи, стол испортишь!”) опять затупился.
В Елисеевском, правда, было так же светло и ярко, как на цветных вкладках той замечательной книги. Не знаю, почему мои родные так мало там покупали. То есть подозреваю, что денег не хватало на дорогой ассортимент этого гастронома (мой отец был врач).
Помню, что как-то раз в Елисеевском дворце – он был не хуже невиданного нами Версаля – в отделе готовой еды – прилавок от входа направо – не помню, назывались ли такие отделы словом “кулинария” или “деликатесы”, мне купили 200 гр форшмака. Зачем ребенку форшмак – ума не приложу. Наверное, опять же на икру (навалом лежала, но ведь при всей ее сравнительной дешевизне и тогда не даром была) не хватало, а хотелось девочку покупкой побаловать.
Обычно форшмак сами дома делали. А вот селедку под шубой, которая сейчас считается просто-таки культовым советским блюдом, наравне с оливье, не делали никогда ни у нас, ни у кого из знакомых. Я сначала жила на Первой Мещанской, ныне проспект Мира, ближе к Колхозной площади, потом в районе метро Аэропорт, где частенько заходила в гости к соседям – ни у кого на столе “шубу” не видала. Впервые селедку под шубой попробовала лет в тридцать пять и сочла, что это наш ленинградский родственник женился неравным браком на простой: фи, чем это она нас угощает (потом полюбила шубу безумно!). Кстати, “Книгу о вкусной и здоровой пище” 1952 г. можно в Интернете пидеэфом скачать, и в ней я тоже селедки под шубой не обнаружила, а устрицы в ней есть. Но вообще каждой книге, как известно, свое время, и эта, скаченная, несмотря на ностальгию по салату из крабов, меня не увлекла.
Устрицы, конечно, в той нашей жизни не попадались. Вообще выпендрежа не было. В Оттепель, благодаря Микояну, внедрили полуфабрикаты – облегчить жизнь работающей женщине. Я помню аккуратные пластиковые пакетики с набором для борща: очищенная свекла, нарезанная капуста, морковка, корень петрушки, – всего понемножку, скромненько, но они уже вместе, чистенькие, раз – и в кипяток. Почему-то эти наборы недолго продержались, а пакетики у нас сохранились – их, конечно, не выбрасывали, а стирали для последующего употребления. Полуфабрикаты котлет продолжали выпускать. Они хорошо расходились. Все-таки котлеты – это основа питания советского времени. Как паста в Италии.
Не паста, а макаронные изделия
Не было у нас слова “паста”, даже в наши предотъездные годы не было, когда многие знакомые уже за границей жили и нам оттуда писали, стараясь нас просветить и подтянуть культурно, никто нам про пасту не объяснил. Мы говорили “макароны”, “лапша” и “вермишель”. Макаронные изделия – это было обобщающее, канцелярское, в быту не употреблялось или употреблялось какими-то некультурными. Макароны были трубочкой, полые внутри, сероватые, иногда как гарнир, иногда отдельно.
Со сливочным маслом – оливкового не было. С томатным соусом – и в голову не приходило. С мясным фаршем и жареным луком – да, называлось “макароны по-флотски”. Понятно, что это экономных хозяек рецепт: мясо сначала варилось, давало бульон, вот вам и первое, считалось, что на три дня, а на четвертый – вредно, портится, хотя кастрюля на холоде: холодильников еще нет, зимой на подоконнике, меж рам или за окном на веревочке, а летом – не знаю, детей летом в городе не принято было держать, снимали дачу.
Черная лестница
В некоторых домах кастрюли держали в чуланах, которые шли из кухни на черную лестницу – что-то вроде подсобки. У нас этот чулан для хранения продуктов не использовали. Там чья-то старушка спала, Лукинишна, в комнатах-то перенаселение было. Я за все годы – а я ведь там двенадцать лет прожила, всё детство – на черной лестнице никогда не была. Она выходила в какой-то двор Второй Мещанской, считалось, что там живет хулиганье. Из нашей комнаты и из общей кухни окна туда, в этот двор, выходили, а я даже не знаю, как можно было туда пройти. И ничего плохого там, судя по звукам в окно, не случалось, ну, ревел футбол, а с 1958 – необычайно популярная песня “Ландыши – белый букет”. Может быть, эта песня, в которой доходчиво разъяснялось, что сердцу дорог “не букет из пышных роз”, а “очень скромные цветы”, ознаменовала переход от фальшивой помпезности сталинского ампира к затягиванию поясов. Хотя в фильмах по–прежнему любили панорамно показывать роскошные лестницы, а в продажу вдруг – на какой-то ограниченный период – выбросили птифуры – ассорти маленьких пирожных в нарядных белых коробках.
В какой-то постперестроечный год я услышала песню про ландыши в исполнении Гелены Великановой, снабдившей пение соцреалистически слащавым предисловием о том, что все мы были бедные, но купить у стоявшей по весне у метро старушки букетик за 15 копеек мог каждый, и как это было ценно для любящего сердца. Мне сразу вспомнилось, что старушек у метро за незаконную торговлю разгоняла милиция, а ландышей (отчасти под влиянием этой песни – знаете, как искусство действует, прямо давит на психику) так пересобирали, что пришлось их в Красную книгу включать. При этом я подумала, что в скромности безусловно есть свои достоинства: вот взялись как раз в те же годы – конец 50-х – строить хоть и крошечные, но дешевые квартиры (“хрущовки”), и сколько людей удалось переселить и осчастливить. Но потом время сделало очередной виток, и Алла Пугачева призналась, что при исполнении песни “Миллион алых роз” она не о цветах мечтала, а о миллионах, и именно это привело к невероятной успешности песни. Кстати, ландыши уже из Красной книги исключены – восстановилась популяция.
А там, на что двенадцать лет смотрела из окна, я так никогда и не побывала. Хотела в 1999 году, гуляя с подругой, живущей на какой-то переименованной и ставшей вполне элитарной Мещанской, попытаться найти тот двор – не стала, потому что в никогда не найденном тоже есть свое волшебство.
После революции домов с черным ходом больше не строили: слуг не осталось, все могли заходить с парадного, а парадный сам собой превратился – в не скажу что.
С бульоном не пропадешь и наши кумиры
На мясном бульоне любой суп сварить можно, с ним не пропадешь. В столовых в меню принято было так писать: суп такой-то на м.б. (в смысле если не написано, что на м.б., то ясно, что на воде). Лапшой чаще всего бульон заправляли, когда настоящий суп варить было некогда, отдельно лапшу не ели. А вермишель и на гарнир была – боже мой, как вкусно с сосисками! – но и отдельно вермишель ели (сосиски-то постоянно из продажи исчезали), то с маслом, то с майонезом (он тоже любил уйти в небытие), то с поджаренными ломтиками яблока, то просто сахарным песком посыпали. Я думаю, подслащенные макаронные изделия – это еврейское, ашкеназское (знаете, у ашкеназов даже рыба-фиш сладкая), но у нас это не говорилось, не принято было о своей еврейской национальности упоминать.
Вот в самом конце 1970-х на сцене появился специалист по истории международных отношений и кулинарии Вильям Васильевич Похлёбкин. Сейчас развелось невероятное количество и консультантов по кулинарии, и телепередач-курсов, и фильмов, романтизирующих и прославляющих профессию повара и т.д., а тогда это было для нас в новинку, что серьезный человек может изучать историю приготовления пищи и публиковать продегустированные им самим рецепты в популярных изданиях – в газете “Неделя” и журнале “Огонек”. Он был нашим кумиром. Раньше я говорила, что нашими кумирами были диссиденты, – одно не отменяет другого.
Так вот Похлёбкин, специализирующийся на кухне разных народов, в первую очередь, на русской национальной, объяснил нам в одном из этих печатных изданий, что русская кухня основывалась на приготовлении пищи в печи – ну, это мы и сами знали, – а вот наплиточным приготовлением пищи – не в духовке, а на конфорках – мир обязан евреям. Кажется, голландские евреи веке в XVIII дошли до этой технологии – до варки и жарки на открытом огне, – возможно, я путаю. Но в том, что он это сказал, про евреев, я уверена. Может быть, в этом его признании тоже было диссидентство, а не так просто ляпнул. Нет, его не арестовали. Не хочу сказать, что его смерть в 2000 году – его жестоко убили, с нанесением множества остро-колющих ран, – как-то именно с этим высказыванием связана, но мы-то знаем, что спецслужбы умеют мстить, а он вообще не опасался и свободно высказывался.
Гарниры
Вряд ли кто-нибудь оспорит, что лучший гарнир к котлетам – это картошка. Тем более что и других вариантов по сути не было, макароны мы уже обсудили, а с овощами в нашем климате было не густо. Гречка почему-то часто пропадала. Особенно перебои гречки ощущались в Ленинграде, а может быть, мне это кажется, потому что у нас там был родственник диабетик и почечник, и гречка была ему нужна прямо-таки медицински, так что если она в Москве появлялась, мы ее отправляли в Ленинград. Летом 1990 года – мы уже почти уехали, гречневая крупа по распоряжению советских Минпищепрома и Минздрава выдавалась только диабетикам по больничным справкам, и тот же Похлёбкин написал научную и остроумнейшую статью «Тяжёлая судьба русской гречихи».
А картошка какая-никакая всегда была. В специализированных магазинах “Овощи” картошка была жуткая: грязная, мелкая, гнилая. Покупали на рынке. От нас, с Мещанской, Центральный был ближе, но он дорогой. Сосед по квартире, пенсионер (мы с мамой где–то уже вспоминали, как он Заболоцкому сказал, что его любимый рассказ Шекспира про машиниста паровоза), человек добрый, брал меня, маленькую, с собой на Рижский. Учил, что картошка любит почву песчаную. Три кг вполне могла притащить. Авоська как-то порвалась, клубни рассыпались – не смешно.
(продолжение следует)


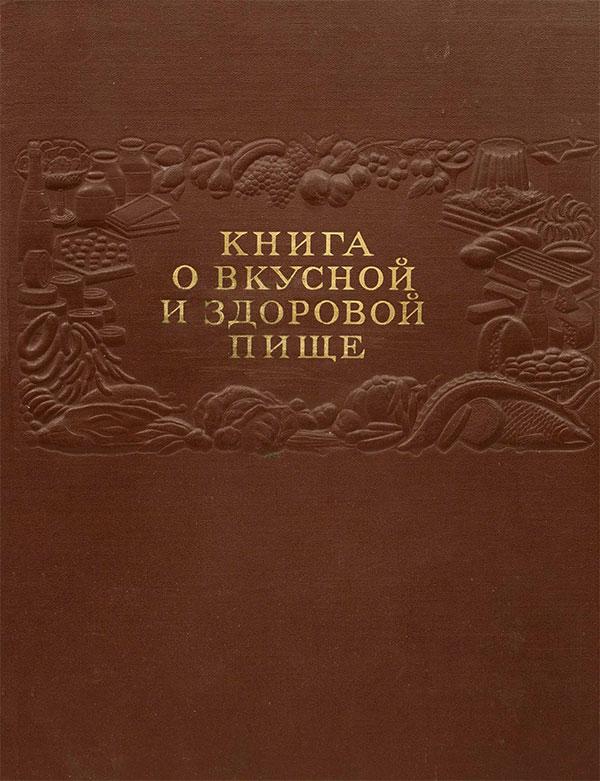



Комментарии
Люблю читать про нашу прошлую
Люблю читать про нашу прошлую жизнь, которую, к сожалению, помню очень хорошо. Особенно радуют бытовые пейзажи, бывшие и у меня в моих тьмутараканях, и в обеих столицах. Написано очень сочно, представляешь не только оба Елисеевских магазина, но и каждую страницу знаменитой книги.
Очень мило
И интересно. Спасибо
Добавить комментарий