Заработок
Не буду рассуждать о зарплатах теоретически, а, как категорически не принято на Западе, скажу, кто из нас сколько получал конкретно. Сколько получали мои бабушка и дедушка, я совсем не помню, а может быть, никогда и не знала. Мой отец в молодости – представления не имею, а в конце жизни, когда меня это уже совершенно не касалось, так как были другие жены и дети, – он получал по нашим понятиям понятиям много, он все-таки был доктор наук, что-то вроде 3600. Мама получала очень неровно, так как работала обычно – не по своему желанию и не по своей вине – внештатно. В 1960 годах ее на какие-то месяцы зачисляли в штат (в Литературную газету, в журнал Вопросы литературы и т.д.) заменять кого-то в декрет ушедшую или что–то такое, тогда я думаю ее зарплата была в месяц около 140 рублей в месяц.
С конца 1987 года, то есть по достижению 60 лет, мама, благодаря своему членству в групкоме, начала получать пенсию 140 руб., рассчитанную по ее заработкам за последние годы – а это как раз были очень удачные годы, так как начались выплаты по чеховскому изданию, для которого она перед этим много лет трудилась, ничего не зарабатывая. В МГУ я получала стипендию как отличница (недолго) повышенную 50 рублей или обыкновенную 35 рублей. Год после университета я не могла никуда устроиться по национальному признаку и не получала ничего. Начав работать в Госфильмофонде (станция Белые столбы) в должности младшего научного сотрудника, я получила зарплату 120 рублей, а потом меня повысили и одновременно переименовали в старшего искусствоведа, и зарплата стала 140 рублей. Но были и премиальные – дополнительная зарплата раз в три месяца. Зарплату выплачивали два раза в месяц: аванс и расчет. Получив первый раз в жизни аванс – 43 рубля с копейками, я, довольная, зашла в промтоварный магазин на станции, вдруг – о чудо! – вижу красивый шерстяной свитер – нет, он мне не по зубам, цена 50 рублей.
Подрабатывали. Про переводы фильмов – много лет это был мой главный жизнеобеспечивающий заработок, – я много рассказывала, сейчас не буду, но уточню: синхронный перевод на одном сеансе (это позже пошли всякие записи на магнитофон, в этом я уже не участвовала) – семь рублей 50 копеек. Казалось бы, точная цена одной пары колготок, но нет: с этих денег выплачивался подоходный налог, получалось поменьше.
Любым литературным трудом подрабатывали - бывало, конечно, что и не литературным: уборка, вязание, частные уроки, но сейчас мы не о том. И мы только о скромных литераторах, не об акульей верхушке. Про статьи, рецензии, переводы, рефераты – вам всё понятно. Я про более редкий литературный труд.
Занимались, например, ответами на “самотек”. Вот что это такое. Многие читатели периодики любили попробовать свои силы в литературном творчестве и послать результаты в газету или журнал. Читателю полагалось отвечать. По тогдашним расценкам полтора рубля за ответ платили – мама писала замечательно: свободно и душевно. У меня так не получалось, я пыталась объяснить, почему данный рассказ или стихотворение не пригодны к печати, вникала в сюжет, занудствовала.
Или аннотированные именные указатели. Очень плохо оплачиваемый труд, но в конце все-таки деньги. Обычно указатели делались к хорошим текстам, так что совсем не противно по многу раз одно и то же читать. В первой корректуре (верстка) подчеркивались упоминания людей, на каждого заводилась отдельная карточка, их раскладывали по алфавиту в коробках из-под обуви. (Вижу, что с логикой у меня не сходится: если обуви не было, откуда коробки? Не могу объяснить.) Иногда, в каких-нибудь популярных первых буквах вроде К или П, алфавит и до шестой буквы фамилии доходил.
Мама, конечно, считала алфавитную раскладку полезным делом для совсем маленькой меня. Имена отчества, годы жизни, занятия искались по источникам – исторические лица и представители гуманитарных наук были хорошо освещены в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, но иногда кого-нибудь было ужасно трудно разыскать, перечитывались мемуары той поры, куча книг перерывалась, пока в редакции и типографии шла подготовка второй корректуры (сверка). По сверке вставляли номера страниц, где эти имена упоминаются. Потом быстренько перепечатывали с карточек – при сверке типография всегда торопит, на задержки сердится.
Еще раз проверяли, не перелезла ли какая фамилия на другую страницу. В готовой книге все равно бывали какие-то несовпадения, да и ошибки другого характера (например, взяли не его, а однофамильца, или пропустили упоминание, или чья-то жена была обозначена только этим словом, а не именем с прописной буквы – не заметили и т.д.) – краснели и рыдали. Казалось, что работа не творческая, что мы – одаренные – несчастны, лучшей доли не получив. А потом я читала чьи-то письма из эмиграции – как уехавшие интеллектуалы, невесть кем ставшие, скучали хоть по такому все-таки литературному труду!
Конечно, знать иностранный язык было полезно. Я как-то по блату – это еще до Госфильмофонда было – в Иностранной комиссии Союза писателей работала. По глупости надеялась, что возьмут в штат, –с устройством на работу ведь тоже были трудности. Недолго работала, так что почти забылось, вспомнила, когда недавно в подготовке примечаний к письмам Риты Райт участвовала. Речь шла о том, что один писатель, родич Роберта Бернса, хотел познакомиться с Маршаком, зная о его переводах (мы эти переводы любили: “В полях, под снегом и дождем, Мой милый друг, Мой бедный друг…”).
По словам Хьюза, Маршак знал о нем, «так как он прочел в газете "Таймс"» полемику по поводу значения наследия Р. Бернса. Я пришла в недоумение, представив себе образ Маршака, читающего английскую газету в сталинские времена. Но та моя подруга, с которой мы за мясом ходили, помогла – напомнила мне про Иностранную комиссию. Частные лица «Таймс» перед собой не разворачивали. Иностранные газеты приходили в Иностранную комиссию при Союзе писателей. Референты этой комиссии просматривали газеты, делали вырезки, раскладывали их по соответствующим папкам, и – по согласованию с начальством – доводили в определенных случаях до сведения соответствующих лиц. Маршака, который много сделал для популяризации Р. Бернса (он даже стал в 1960 г. почетным президентом Всемирной федерации Роберта Бернса в Шотландии), очевидно, знакомили с публикациями о Бернсе.
Поликлиники
В мое время официально существовали районные и ведомственные поликлиники. Врачи, работавшие в районных поликлиниках, назывались районными или участковыми, так как они были прикреплены к определенному участку. Можно сказать наоборот: за ними числился определенный территориальный участок (район) с определенным – к сожалению, не знаю, с каким именно – количеством проживающих на нем людей.
Чаще участковым врачом называли терапевта, а про специалистов говорили «невропатолог» (окулист и т.д.) из районной поликлиники, но можно было сказать и «участковый невропатолог» или «районный невропатолог». Эти врачи бывали совсем не плохими – это уж как попадешь, дело случая, но нагрузка у них была ужасно большая. Особенно во время эпидемий гриппа, простудных заболеваний и т.д.
Ведь они должны были не только вести прием в поликлинике, где всегда была очередь, но и навещать больных на дому. Сейчас мне стыдно, что мне, в общем-то здоровой девахе, которая просто не желала идти в школу, при простудной температуре около 37,3 вызывали врача на дом, чтобы у меня была справка о болезни. Но тогда все вокруг меня тоже так делали. Некоторые, когда всерьез болели, вызывали частного врача – лучше профессора, не доверяя районному врачу.
Официально существовали платные поликлиники, считалось, что там работают врачи более высокого уровня, и многие по собственному желанию ходили туда к специалистам или вызывали их на дом – плата была невелика (но бюллетень и, по-моему, даже справку для школы в платной поликлинике не имели права выдавать). С моего раннего детства – а раньше я не знаю – существовала и платная лаборатория, и можно было вызвать сестру взять кровь на дому (мочу в баночке относили сами), но платных больниц не было. Кроме того, была частная – нелегальная – медицина: за деньги и по знакомству.
Но это было для сложных или срочных случаев (посоветоваться о диагнозе, сделать рентген, попасть на операцию), не для повседневного лечения. Поскольку районные поликлиники финансировались плохо, то есть при очень тяжёлой нагрузке зарплата была низкая, то врачи стремились перейти из районной поликлиники либо в больницу (там тоже тяжело, но работа интереснее), либо в ведомственную поликлинику. Из-за этого профессионализм районного врача часто вызывал сомнения (во многих случаях несправедливые). Ведомственные поликлиники финансировались гораздо лучше, но по-разному, в зависимости от того, какое ведомство.
Такие поликлиники были у каждой большой и уважающей себя организации. Главными ведомствами были, конечно, Центральный комитет партии и правительство – их поликлиника и больница назывались – «Кремлевка» (народное выражение) и поликлиника четвертого управления (они и принадлежали 4-му управлению М–ва здравоохранения СССР). Там, естественно, были очень хорошие условия (чисто, фикусы в кадках, в больнице питание от души) и лучшие лечебно-диагностические возможности, но совсем не всегда там были хорошие врачи – туда ведь брали преимущественно по блату.
Про Кремлевку говаривали «полы паркетные, врачи анкетные». Может быть, этим ехидством просто утешали себя те, кто туда попасть лечиться не мог. «Люди нашего круга» (знания мои ведь всегда ограничивались не только самой Москвой, но и ее определенным срезом, я ведь никого, например, с огромного завода Лихачева и в глаза не видела) старались попасть в поликлинику Академии наук, Литфонда, Союза художников и т.д. Моя мама, пока работала в редакции, принадлежавшей академическому институту, состояла в поликлинике Академии наук. Потом пришлось ей ряд лет в районной помыкаться (как раз невропатолог попалась замечательная), а потом в Литфонде.
А я всегда была в районной поликлинике, но так как мама в своих ведомственных с врачами знакомилась и отношения были хорошие, то и меня к ним водили и делали мне там диагностические процедуры (например, рентген) иногда за деньги, иногда за бутылку коньяка или флакон французских духов, иногда просто так – по дружбе. Ну, и, если что-то надо было достать, например, лекарства (ерунда полная, когда говорят, что дефицита лекарств при советской власти не было – вранье!) или предметы ухода за больными (настоящая редкость!), тоже, конечно, знакомствами пользовались.
Зубная боль и ее профилактика
Вроде бы были районные зубные поликлиники с бесплатным лечением, хотя что-то в них все-таки было платное, например, естественно, протезирование. Туда никто из моих знакомых не ходил, так что подробностей не знаю. Меня с раннего детства водили к частному зубному врачу по фамилии Гурарий, принимавшую рядом на Мещанской. Кабинет находился почти в той же комнате, где она жила – за занавесочкой, в коммунальной квартире – к ней шли по длинному коридору, в котором привычно пахло жареными котлетами. Никаких там приемных и секретарш сроду не было. Случалось надо подождать, в той же комнате и ждали.
О стерильности не заботились. Резиновые перчатки как будто еще и не придумали. Телефон висел на стене в той же комнате-кабинете, звонил часто, она подходила, отвечала, положив трубку, возвращалась к пациенту, рук не моя. Никаких, как сейчас принято, подарочков для ребенка, утешений в виде наклеечек и т.д., не существовало. Велено держать рот открытым, так и держали. Но ничего плохого про лечение сказать не хочу и не могу. Бормашина, конечно, вспоминается как кошмар.
Когда мы переехали к метро Аэропорт, там как раз и литфондовскую поликлинику построили, куда меня по блату водили. Но это все-таки было сложно – кто-то мог нажаловаться, – поэтому, когда на улице Усиевича открылась хозрасчетная зубоврачебная поликлиника, я перешла туда. Тем более у меня была к одному врачу рекомендация, о которой я хочу рассказать подробнее.
У нас в подъезде жила вдова писателя О.Г. Савича, Аля (Альгута) Яковлевна, дочь московского раввина Якова Исаевича Мазэ. Мы с ней по-соседски дружили. А она издавна – еще по Парижу, где все они когда–то были знакомы – дружила с дочкой И.Г. Эренбурга Ириной Ильиничной, с которой мы нельзя сказать, что подружились, но общались очень приятно. У Ирины Ильиничны незадолго перед моими родами родилась правнучка, так что она у нас считалась специалистом по малышам, не говоря уж о том, что моей дочке перепадали очаровательные вещички от той правнучки. По части детских вещей мне, вернее, моей дочке вообще очень повезло: именитые люди ее снабжали. Как специалист Ирина Ильинична рекомендовала мне частного педиатра – деньги не такие уж и большие, а важно.
Чудесный врач была эта женщина, Елена Григорьевна ее звали. Она учила меня не волноваться в первую же минуту, когда у ребенка поднимется температура, но сама возможность ей в эту первую минуту позвонить, была крайне утешительна. Словом, мы были обеспечены хорошим врачом и постоянной заботой. Елена Григорьевна, как и я, была матерью-одиночкой, что тоже сближало, и упрощало наше общение. У нее был милейший мальчик белобрысый Дениска (многие любили В. Драгунского и называли мальчиков именем героя его рассказов), совсем непохожий на ее армяно-еврейскую кровь.
И вдруг по телевизору в самое прайм–тайм показали, что идет суд над группой мальчишек, совершивших ограбление квартиры. И самих мальчишек показали, Дениску среди них. Я до сих пор думаю, что это было не настоящее ограбление, а мальчишеское хулиганство: кто-то его подначил по лестнице в окно влезть. Стащили какую-то полную ерунду, тряпки. Ситуация прямо из фильма “Клетка для канареек”, тогда на экран вышедшего, первая роль Евгении Добровольской. Почему именно эту историю показали по телевизору, – так и не узнала. Интеллигенция, а частная практика Елены Григорьевны, естественно, состояла из интеллигенции, ведь не рабоче-крестьянский блок лечит своих детей частным образом, всегда уверяла, что телевизор не смотрит. А тут оказалось, что все этот сюжет видели. Елена Григорьевна не выдержала, покончила с собой.
Опять я отвлеклась. Кстати, Гоголь тоже очень большие отступления от темы делал, но я себя совершенно не сравниваю, дурного не подумайте. Так вот. У Елены Григорьевны была сестра, зубной врач, в поликлинике на Усиевича работала, и Елена Григорьевна, само собой, когда еще жива была, посоветовала мне у нее лечиться, что я и выполнила. Алле пришлось взять Дениску к себе. Она его очень любила и жалела, и на сестру, горячо любимую, очень сердилась, что та мальчика таким образом бросила, когда он именно в поддержке нуждался. Я приходила лечить зуб, она вспоминала сестру – плакала с инструментом у меня во рту, я тоже с этим инструментом во рту плакала. А потом я уехала, и никак не пойму, как я могла не взять ни ее телефона, ни адреса. Ничего про них не знаю.
Отдых
За границу, естественно, не путешествовали. Ездили на юг “дикарями”. То есть снимали там койки – даже не комнаты, а кровати по количеству людей, на отдых приехавших. Иногда часть коек на террасе ставили, иногда в саду. Иногда к съемной площади прилагалась и кухонька или хотя бы плита – это было важно, общепит всюду не справлялся, да и дешевле и полезнее питаться своим. С билетами на поезд были трудности и двухсуточное пребывание в вагоне (кошмар советских туалетов!) тоже не доставляло удовольствие. Самолетами стали летать позже, годах в 1960-х.
В 1950-х в моду начали входить походы и турбазы. Я по возрасту попала в эту струю только в 1960-х. Сильно вошла в моду Прибалтика, там условия в съемных комнатах были гораздо лучше, чем на юге, – но погода негарантированная. Возвращающиеся из Прибалтики хвастались качеством тамошних продуктов, особенно съеденными взбитыми сливками (с середины 1960-х и в Москве взбитые сливки появились в кафе “Шоколадница”). С начала 1970-х интеллигенция облюбовала местечко Апшуциемс на побережье Рижского залива, – уж и не вспомнить, почему я туда не попала, а только той компании завидовала.
Дома отдыха были разного уровня, в зависимости от того, какому ведомству принадлежали. Дома отдыха от творческих Союзов назывались Дома творчества. И туда меня несколько раз возили. Конечно, не в Дубулты (это часть Юрмалы, под Ригой), который считался самым престижным Домом творчества. Трудно было получить путевку и в Голицыно, которое, благодаря близости этого места к Москве, давало возможность и сбежать от бездомья, от тяжёлого быта коммунальных квартир, и не чувствовать себя отрезанным. Число комнат в Голицыне было невелико, однако писатели могли, если не удалось получить путевку, – приобрести так называемую курсовку (право на питание без проживания) и снимать дачу в поселке, или даже специально купить какую-нибудь комнатушку поблизости от Дома творчества и жить там почти постоянно.
Некоторые жившие «по курсовке» приходили в столовую на обед и ужин, другие носили горячую еду из столовой на дачу в «судках» – в нескольких кастрюльках, поставленных одна на другую и скрепленных скобой с ручкой. Ни разу не были мы и в Переделкине, прозванном теперь на западный манер “творческой резиденцией”. Путевки туда, тоже в основном из-за удобства сообщения с городом, то есть возможности не прерывать деловые связи, распределялись между “видными” авторами. В результате была я в разные годы моей жизни несколько раз в Коктебеле, в Малеевке и в Комарове.
В Коктебеле – Черное море, в Комарове – Финский залив, в Малеевке – пруд и массаж. Побывав за годы эмигрантской жизни и на европейских курортах, должна сказать, что Дома творчества – это единственная советская институция, про которую я могу сказать, что “там было не хуже”. Отдельные комнаты, четырехразовое питание плюс на ночь кефир или чернослив (по выбору), между ужином и черносливом просмотр фильма: жуткие показывали фильмы, но мы смотрели. В общем, это приближалось, видимо, к тому, как жила советская верхушка, и мне должно быть стыдно, что мне так жить нравилось, но все-таки трудно поспорить с тем, что жить хорошо лучше, чем плохо. Кроме того, главным удовольствием от Домов творчества были новые знакомства.
Про романы не рассказываю, но сколько завязалось дружб! Несколько лет назад, найдя меня на Фейсбуке, мне написала одна женщина, что когда-то, когда ей было семь лет, а мне девять или десять, мы с ней одновременно были в Коктебеле, у нее даже сохранилась фотография меня в роли идущего к закату Солнышка на представлении нашей детской театральной группы (родителям давали отдохнуть от детей, на хороших курортах и сейчас так делают), и мы радостно возобновили отношения.
Жилье
Из по-обычному чудовищной коммуналки – человек двадцать жильцов на одну уборную, а плит на кухне две: восемь конфорок на шесть семей вроде всем хватает, но все равно скандал – в начале 1962 года мы переехали в кооперативный дом. Не знаю, как сейчас, тогда люди объединялись в ЖСК по профессиональному принципу.
Наш дом был писательский. Маме повезло: вышли переиздания книг ее отца, из этого гонорара она смогла внести сумму, составляющую первоначальный пай, практически первую часть стоимости квартиры, остальное выплачивалось в рассрочку. Сейчас кажется, что это были копейки, но тогда не только для нашей семьи, для многих было очень трудно такие деньги найти, но это был единственный способ вырваться из коммуналок или отселиться от родителей. Кому-то полагалось жилье от государства (кто-то даже получал), но для этого нужно было уж в каких-то таких условиях жить, что лучше и не представлять себе (опять же я не говорю о советской элите).
До войны уже были выстроены несколько кооперативных домов, в частности и писательских, а после войны раньше нас были построены только дома «Педагогов Московской Консерватории» и «Московский писатель». Позже кооперативное строительство стремительно развивалось. Хотя все равно и вступить в кооператив было трудно (ограниченный приём), и деньги найти трудно, и так далее, как-то оказалось, что все знакомые (“наш круг”) уже пайщики. Жизнь в отдельной квартире в подъезде с лифтом и мусоропроводом, и дружественными соседями по площадке была наслаждением неописуемым.
Трудно понять, как из кооперативной квартиры можно было уехать в неизвестность и неустроенность эмиграции. Не пытаясь вдаваться в социально–политические причины, хочу подчеркнуть, что уезжали тогда – около 1990 – не от реального бездомья. От чего-то метафизического уезжали, непонятного. А может быть, забылось от чего. Стало расплывчатым. Я конкретные детали помню: батон серо-желтый (кукурузной муки переложили) за 13 копеек, побелее за 18, а батон улучшенного качества за 22, а про самый факт своего существования у меня есть сомнения. То ли я была там, то ли нет. Размыто.
И вдруг случайно в Интернете я нашла, что кто–то мне незнакомый составил аннотированный список жильцов нашего дома в алфавитном порядке – «Из истории ЖСК “Советский писатель”» называется. А про нас подробнее всего. И не только о моей маме, чья фотография на фоне нашего дома – единственная фотография в этой электронной публикации, а и обо мне говорится, и даже моя дочка упоминается по имени. И когда я это прочла, я наконец поверила, что не только дом был, но и я в нем действительно жила – и вообще жила. У меня теперь не просто удостоверение личности есть, а полная идентификация. Вот что значит печатное слово.



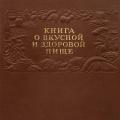

Комментарии
Поздравляю, гражданочка,
Для контекста, директор электростанции в СССР (новыми) получал около 300 р/месяц. 3600 р, которые получал папан авторши, видимо, за год?
Я поставила лишний ноль!
Я поставила лишний ноль! Прошу прощения! Очень тронута внимательностью Вашего чтения.
Добавить комментарий