У новой книги Нины Косман [1] “Оправдание мартышки” есть два несомненных литературных достоинства.
Во-первых, сборник ее рассказов очень легко читается, но это не легкость или простота, что хуже воровства, а проявленный в завидном умении организовать нарратив, дар рассказчика.
Во-вторых, книга побуждает задуматься о вещах, которые слишком часто пролетают мимо нас, приобретая обманчивую форму данности, о которой “не стоит и говорить” по причине ее якобы фатальной неизбежности. Всем известно, например, о существовании вербального жанра “small talk”, часто используемого для ухода от любых сколько-нибудь серьезных разговоров или о, свойственной даже интеллектуалам, тенденции слепого расклеивания ярлыков.
Все знают, что творческим (или считающих себя таковыми) индивидуумам порой присуще не умное и неуемное тщеславие, а лицам, занимающимся физическим трудом, пугающе первобытная ограниченность… После определенного рубежа, именуемого взрослением, о подобных человеческих изъянах почти не принято говорить - их принято попросту не замечать (с досадой или без). Однако автор “Оправдания мартышки” не просто отказывается игнорировать обсуждение перечисленных выше человеческих несовершенств, она де-факто бросает им художественный и экзистенциальный вызов.
Рассказ “Весна 1941”, как и многие другие в сборнике, написан в довольно характерной для дня сегодняшнего манере, когда автор воздерживается от итоговых заключений, предоставляя читателю возможность сделать их самому. Подобный простор для интерпретаций присутствует сегодня и в журналистике, и в кинодокументалистике… Первая мысль, приходящая в голову при чтении этого рассказа сводится к тому, что главная его героиня – “бывшая свекровь” автора повествования, у которой Нина часто гостила в прошлом - человек крайне ограниченный, если не сказать большего. Но прочитав текст целиком, понимаешь, что “бывшая” вовсе не ограничена и отнюдь не глупа. Однако она возводит вокруг себя неприступную вербальную крепость, заключающуюся в том, что в ее доме нельзя говорить о чем-то негативном, тем более, трагическом.
Так, во время очередного семейного визита в Чикаго “свекровь” проявляет интерес к опубликованному в американской периодике рассказу Косман об ужасах сталинских лагерей, напрямую коснувшихся реальных родственников автора. Но после внимательного прочтения этой холодящей, судя по выдержкам, публикации, хозяйка дома задает автору максимально “релевантный и существенный” вопрос о том удалось ли, чудом уцелевшей узнице Гулага впоследствии восстановить зубы, потерянные в связи с чудовищными лагерными условиями. Это все, что заинтересовало “свекровь” в этом по-шаламовски откровенном рассказе об изощренных зверствах сталинского произвола.
На первый взгляд, это безусловно отталкивающая, “почти хамская”, но все же достаточно тривиальная сцена, из-за которой вряд ли стоит ломать копья или вызывать виновницу сего странного эпизода на дуэль. Однако Косман выстраивает сюжетную линию повествования таким образом, что даже у не засвидетельствовавшего описанный выше инцидент читателя вроде меня, появляется желание вмешаться в упомянутый разговор и “проинформировать” хозяйку дома о ее тягостной обывательской пошлости.
Забегая вперед, скажу, что похожие “сильные чувства” вызывают многие другие тексты Косман. Обычно в самом их дебюте автор искусно бросает наживку интереса к сюжетной линии рассказа в априори строптивую реку читательского внимания, и “трюк” срабатывает - рассказы цепляют, а главное - их хочется дочитать до конца. Впрочем, повторив уже сказанное, подчеркну, что упомянутые абзацем выше дефиниции (такие как пошлость, тщеславие, глупость и т. д.), описанных Косман персоналий, как правило, не исходят из-под пера самого автора…
Одно из исключений, когда вещи все же называются своими именами, присутствует в небольшой зарисовке “Лебеди в Ист-Виллидже”. По ходу ее чтения еще раз приходишь к подтверждению того, что тщеславие, пусть в самых незначительных его дозировках, увы, неизбежный попутчик любой творческой натуры. И любого художника - даже великий странник Хлебников был в чем-то тщеславен, если, конечно, верить мемуарам Серебряного века. Однако для более точного раскрытия этой темы важны, так сказать, нюансы.
И автор книги наглядно показывает, что чувство брезгливого отторжения вызывает не просто тщеславие, а “грубое желание славы” - качество часто становящееся естественным объектом для самых разнообразных, часто очевидных, манипуляций. От себя добавлю, что не менее жалкое впечатление производят игры в полное безразличие к успеху, часто весьма прозрачные в своей фальшивости. Именно “грубое желание славы” искусно использует ловкач-галерейщик, завлекающий в свой салон многочисленные вереницы посетителей, среди которых визуально преобладают два характерных типажа: “женщины с лебедиными шеями” и мужчины с “медленными движениями и бритыми головами”, буквально пышущие глуповатым и неприкрыто грубым стремлением стать знаменитыми.
Чичиков от изобразительного искусства сулит им всем весьма однообразную приманку. Перспективу персональной выставки в его галерее в Ист-Виллидже*, предваряя это стандартное предложение псевдофилософскими (а ля Бурдье) рассуждениями об “инсайдерах-аутсайдерах” и о прочих иерархиях в противоречивом мире изобразительного искусства. Впрочем, в случае с автором “Оправдания мартышки” (к слову, Нина давно занимается живописью) его эстетические пассажи, как шитье черным по белому, производят прямо противоположный результат: от прежнего желания выставиться в галерее жуликоватого культрегера не остается и следа.
Так же как от изначального намерения выставиться в квартире другого, распираемого от осознания собственной значимости, “подвижника” (рассказ “О борьбе с пессимизмом”); от встречи, к которой Нину подталкивала одна пожилая и многоопытная коллега по цеху (впрочем, автор книги не сомневается в чистоте ее побуждений). С высокомерным раздражением и пренебрежительностью меценат назначает молоденькой художнице предварительный appointment у себя дома… в одиннадцать часов утра, но с немаловажной оговоркой: “если вы опоздаете даже на пять минут, вполне возможно я буду не в настроении смотреть чтобы то ни было, тем более, ваши слайды”.
В итоге настроение показывать слайды теряет сама художница, которая в назначенное время решает “продинамить” подвижника и остаться дома для того, чтобы заняться своим любимым делом – творчеством. Несколько позже она придет к выводу, что это единственно значимое для нее занятие, поэтому не слишком важно нужно ли оно кому-нибудь или нет, сколько за него платят и в какой мере ей рукоплещут.
В книге много других точных человеческих портретов. Здесь и находящаяся под безоговорочной властью стереотипов, уборщица из Перу, впечатляющая своей не тронутой жесткостью цивилизации, природной добротой, с одной стороны, и столь же невозделанной, как джунгли Амазонки, дремучей неинформированностью (о культуре говорить излишне), с другой; и наглый, тонущий в собственной безнаказанности и самолюбовании полковник ФСБ (кстати, еще один расклейщик ярлыков), ведущий разговор на грани фола, но все же не переходящий последней черты; и американские студенты (нередко с культурным бэкграундом стран третьего мира) – будущие инженеры, не понимающие зачем им читать стихи Рафаэля Альберти или смотреть на “синих куриц” Шагала …
И много других удачных зарисовок, о каждой из которых невозможно рассказать в ограниченном формате рецензии. Готов, впрочем, засвидетельствовать, что портреты Косман предельно узнаваемы потому, что в них нет ни капли придуманного или надуманного. При этом в книге есть и вполне сюрреалистические тексты, такие как рассказ “Бесплатная мазь”, например.
Не случайное место в книге занимают рассказы о встречах с прославленными “земляками” - реминисценции о пересечениях с Довлатовым и Бродским, в которых интересен свежий взгляд наблюдателя-аутсайдера. Аутсайдера в том смысле, что вероятно, по причине, поколенческой разницы в возрасте, автор книги не входила в закрытый круг дружеского общения литераторов с ленинградскими корнями в тот период, когда описанные в книге встречи состоялись. Хотя с Довлатовым тесно общались брат и отец Косман, а с Бродским Нину свела ее приятельница и соседка Бродского по легендарной Мортон стрит Мария Воробьева.
Я сопоставил реминисценции Косман с собственными беглыми впечатлениями о прославленных “ленинградцах”, поскольку был, как говорится, шапочно знаком с ними. И установил для себя один весьма любопытный факт. Поверхностные поведенческие контуры и приблизительный, так сказать, личностный фоторобот ленинградско-нью-йоркских писателей, зафиксированный мной в те далекие годы, в целом, соответствует наблюдениям Косман, подтверждая, тем самым, их объективность.
Автор этих не лишенных юмора рассказов очень красочно показала, что так называемые небожители, как это ни странно (и здесь хочется поставить смайлик), не были лишены обыкновенных человеческих желаний. Подвыпивший Довлатов бежит за ней по Форест Хилз**, во время встречи с начинающей поэтессой Бродский говорит о Цветаевой и Сильвии Платт, но посматривает при этом на ноги своей молодой гостьи.
В то же время в этих воспоминаниях нет ничего сального, но в них есть тонкая эстетика… Очень поэтично место, где Бродский предлагает молодому автору последовать за ним во внутренний двор его небольшого дома, где он любил принимать гостей (судя и по другим прочитанным мной воспоминаниям) и, присев за небольшой столик, продолжает разговор о литературе под дыхание теплого осеннего дня.
Завершающий раздел этой книги называется “Притчи”, а название книги “Оправдание мартышки” – один из вошедших в него текстов. Это, конечно, аллюзия на басню Крылова и едкая сатирическая зарисовка об абсурдных прочтениях художественных произведений. Да и жизненных ситуаций, если посмотреть шире. Есть в упомянутом разделе и наблюдения о разных оттенках все того же “грубого стремления к славе”. Например, в чем-то насмешливая, а в чем-то философская притча о том, как затяжная депрессия (“мисс Депрессия” из рассказа “Нобелевка 2”), вызванная тем, что главного героя повествования никак не наградят Нобелевской премией, в конце концов пожизненно избавляет страдальца от своего навязчивого присутствия… как, впрочем, и сама премия.
Есть в этом разделе и саркастическая, к сожалению, не лишенная правдоподобности притча “Как стать поэтом”. Центральный ее персонаж выясняет однажды, что для восхождения на Парнас вовсе не требуется овладение поэтическим ремеслом и даже само писание стихов не обязательно. Требуется лишь устраивать поэтические презентации, произнося в микрофон необычные звуки (скажем, растягивать гласные), но самое важное - уметь грамотно кланяться “главному поэту”. Оказалось, что герой повествования кланялся “главному” совершенно неправильно - оттого и не получил пресловутую “Мобелевскую премию” (сакраментальный трофей пишется в рассказе именно с заглавной “М”).
Однако, самое сильное впечатление производит небольшая притча о “Равнодушии к славе”. Не хочется переключать внимание возможного читателя этой рецензии на себя, но вышеупомянутый текст Косман (не важно был ли он написан всерьез или полушутя) перекликается с моей давней поэтической “гипотезой” о не тождественности таких экзистенциальных категорий как “душа человека” и его “эго”.
Не претендуя на первичность своих околофилософских размышлений (это, вообще, не мой жанр), и не намекая, упаси Боже, на воровство своих находок, я просто хотел рассказать о любопытном совпадении наших с Ниной мыслей. В этой притче Косман предполагает, что после физического конца своего “изначального” обладателя, душа человека обретает, так сказать, широкую автономию и не обязательно вспоминает о своем прежнем адресе: “Так же случайно она влетела в дом, где еще жили жена и дети поэта и, не узнав их, вылетела в открытую дверь. Душе, освобожденной от тела, были глубоко безразличны мечты человека о бессмертии его имени, которое она давно забыла”.
Проза Нины Косман может быть довольно безжалостной, если речь идет о фальши или о неких надуманных или фантазийных субстанциях. Даже если они пустили глубокие корни и являются почти бесспорными категориями в коллективном сознании целых социумов. И, приведенная выше притча “О равнодушии к славе”, вынуждает, как мне кажется, если не пересмотреть, то под несколько иным углом взглянуть на такое понятие, как “нетленка” (равно как на то, кто, как и зачем творит ее), ставшее в литературной среде некой данностью.
Не являясь концептуальной по замыслу, книга оставляет целостное впечатление своим (осознанным или нет) посылом – это, своего рода, экзистенциальный дневник, поэтапно рассказывающий о столкновении часто еще совсем молодой и неопытной девушки с противоречивым, часто уродливым окружающим миром в самых разных его вариациях. В то же время, не дающий прямых оценок происходящему, автор книги рассказывает лишь о своем эмпирическом опыте, не обобщая его, и не сгущая при этом красок. Косман не пишет “портрет отверженной героини”, но ее своеобразный дневник вызывает уважение и сочувствие (не путать с жалостью). Читая его, хочется процитировать пастернаковское “бросающая вызов женщина, я поле твоего сраженья”, хотя в этих текстах напрочь отсутствует искусственное нагнетание драматизма или какой-либо пафос.
“Повзрослел, да не поумнел” – гласит известная народная поговорка. Можно сказать, что в случае с автобиографичной, но не автобиографической прозой Косман, все обстоит ровным счетом наоборот: ее автор поумнел, но в хорошем смысле слова, не повзрослел (читай: не оброс лишним весом обывательской фальши, стереотипов и предрассудков). Книга Косман интересна отчасти этим.
-------------
*Ист-Виллидж – район Нью-Йорка ассоциирующийся с богемой
**Форест Хилз – район Большого Нью-Йорка
Электронная книга продается на сайте Babook: https://babook.org/store/355-473


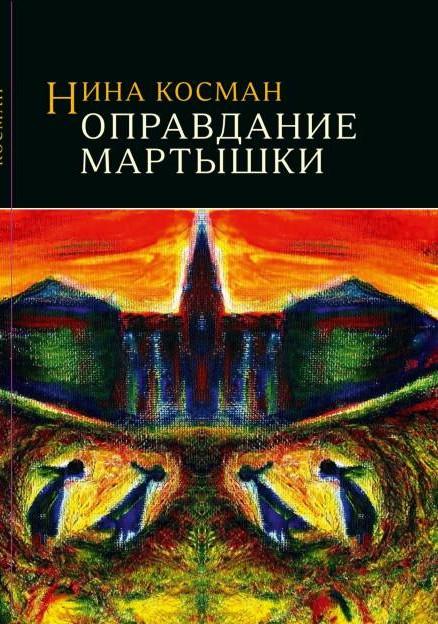

Добавить комментарий