Оригинал: журнал Знамя, 2, 2017
После «Лавра», завоевавшего национальную литературную премию «Большая книга» (2013) и разделившего читателей на поклонников и хулителей, Евгений Водолазкин стал известным писателем. Роман «Авиатор»[1] сразу же вызвал к себе интерес: поклонники жаждали подтверждения своих ожиданий, хулители надеялись на торжество своих.
Если «Лавр» был посвящен «делам давно минувших дней» (напомню, что Евгений Германович Водолазкин как филолог занимается древнерусской литературой и работает в Пушкинском доме в С.-Петербурге, защитил две диссертации), то «Авиатор» обращен к современности, его действие приурочено к 1999 году.
Отражены реалии современности: хаос в политике, расслоение общества, на страницах романа есть корпоративы, фейерверк на Елагином, банкет в Кремле с вручением высоких наград, некто Желтков, высокий правительственный чин, чье посещение изложено с анекдотическими деталями, — ничуть не удивляет, что в решающий момент Желтков отказывает герою в помощи. В книге оживает Петербург, с пропахшими мочой парадными, убогими больницами, с шурупами вместо дверных ручек. Со всеми признаками разора и одичания. Все это имеется, но все это не главное.
Ибо снова, как в «Лавре», в центре произведения стоит процесс преображения героя, его духовного становления, обретения себя. Героем «Авиатора» стал человек, замороженный в экспериментальных целях примерно в 1926 году в Соловецком лагере и воскресший в наши дни благодаря новейшим достижениям науки. Память возвращается к герою не сразу, возвращается неравномерно, толчками, и не полностью. Воскресивший его врач с известной немецкой фамилией Гейгер советует своему подопечному писать дневник, дабы вспомнить прошлое.
Из картинок, всплывающих в сознании, Иннокентий реконструирует свое прошлое и себя. В памяти оживают Робинзон Крузо, Художник, Авиатор. К этим образам он возвращается на протяжении всей книги. В нем самом есть воплощение всех троих. Он, как Робинзон Крузо, столь любимый им в детстве, заново воссоздает утраченный им мир — из случайных обломков, запахов и теней. Как Робинзон, в свое время он оказался на «острове». И был тот остров адом для всех, кто туда попадал.
И было невозможно — ни тогдашнему зэку, ни сегодняшнему «размороженному», примирить с ним понятия «жизнь», «Бог», «человек». Художник... Иннокентий приходит к мысли, что в прошлой жизни учился живописи, но способности были утрачены им в процессе размораживания. Однако дух живописца продолжает в нем жить — он любит «описания». Мало того, он считает, что «картины», то есть описания, — это единственное, что остается в потоке времени. Они вневременны, и с их помощью можно оказаться в том мире, который уже исчез.
Еще один постоянный образ, давший название всей книге, — Авиатор. Очень возможно, что толчком к написанию романа Водолазкина стало стихотворение Блока, обильно на его страницах цитируемое. Оно так и называется, «Авиатор», хотя внутри текста человек, управляющий самолетом, назван «летуном».
Летун отпущен на свободу,
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское — в воду,
Скользнул в воздушные струи.
Чудесное, освобождающее начало, летун-авиатор свободно скользит в воздушных струях на своей железной птице. Но уже к середине стихотворения начинает ощущаться тревога:
Все ниже спуск винтообразный,
Все круче лопастей извив,
И вдруг... нелепый, безобразный
В однообразьи перерыв...
Стихотворение Блока навеяно происшествиями на Комендантском поле, во время авиационных праздников в 1910 году — Блок на них присутствовал и видел в промежутке нескольких месяцев гибель двух летчиков.
Водолазкин реконструирует момент гибели летчика, увиденный глазами мальчика Иннокентия. Они с отцом на Комендантском поле в нетерепении ждут выступления авиатора Фролова, собиравшегося показать фигуры высшего пилотажа. Фролов становится особенно дорог Иннокентию, когда он, видя, что у авиатора нет спичек, а во рту — незажженная папироса, бежит к нему через все поле со спичками. Авиатор закуривает и крепко жмет мальчику руку.
Из своего полета он не вернется, и Иннокентию будет суждено видеть его мертвым, с неестественно вывернутой рукой. Наполняя плотью эту картину — полет российского Икара и его падение, — Евгений Водолазкин, конечно же, опирается на блоковские подсказки. Например, на такую деталь, как «рука мертвее рычага». Его вымышленный герой словно опережает Блока в своем видении безжизненной руки авиатора...
Авиатор видит землю под собой, чувствует себя ее властелином, что прекрасно описано в «Ночном полете» Антуана де Сент-Экзюпери, но в нашем случае символика этого понятия, как кажется, в другом. За ней скрывается тот, кто может удалиться от «земного», «дольнего», приблизиться к вышним сферам — и увидеть с высоты своего полета всю тщету и мишуру, а порой ужас и ад человеческой жизни.
Собственно говоря, Иннокентию и было суждено проверить это на себе. Он прошел через кромешный ад лагеря на Соловках. Описания лагеря сродни тем, что мы встречали у прошедшего через Соловки Дмитрия Сергеевича Лихачева, замечательного исследователя древнерусских текстов. Сказала «сродни», но, возможно, лагерные сцены у Водолазкина и пострашнее, он описывает чисто адовы муки.
«Соловецкая» часть книги — дань памяти всем узникам Соловецкого ГУЛАГа, но в первую очередь она посвящена памяти Дмитрия Лихачева, работавшего вместе с Водолазкиным в отделе древнерусской литературы Пушкинского дома. К Лихачеву (1906–1999), младшему современнику Иннокентия, бывшему свидетелем почти всего ХХ века, восходят, по-видимому, и авторские размышления о долголетии — невеста Иннокентия дожила до наших дней, и внимание героя к звукам и запахам — по словам академика, они кардинально изменились после революции, и гимн старой орфографии — вспомним, что юного Лихачева взяли за шуточный доклад, прочитанный в студенческом обществе, о преимуществах старой орфографии. Ученик доводит тему до гротескной грани: его герой утверждает, что без старой орфографии не было бы великой русской литературы.
Остров, в Средние века обжитый монахами, был превращен большевиками в обитель сатаны, где чекисты истязали и мучили соплеменников.
«...нужно было добраться до низа ствола — он терялся в глубоком снегу. Мы откапывали его голыми руками — лопат не было, даже рукавиц не выдавали. Чтобы дать согреться рукам, отгребали снег ногами — тоже голыми, потому что обувью нашей были лапти, надетые на портянки из мешковины... Ноги нередко отмораживались, и их — приходилось ампутировать... такие люди обычно не выживали». Не правда ли, даже в лагерной литературе нечасто встречаются подобные ужасы. По части ужасов «Авиатор» если не превзошел роман «Лавр», то точно ему не уступает.
Есть здесь сцены насилия гэпэушников над женщинами, вызывающие содрогание. Есть в «Авиаторе» и жесткий «физиологизм», в котором упрекали автора «Лавра». По всей видимости, это интегральная составляющая таланта ЕвгенияВодолазкина, отчасти находящая опору в древнерусской литературе, в которой с телом связаны хвори, нечистота, пороки и язвы. Арсений, герой «Лавра», — врач, спасающий людей от мора, и роман полон описаний больных бубонной чумой.
Там же описываются роды с неправильным предлежанием плода, которые впервые в жизни вынужден принимать Арсений (родильница — его возлюбленная), нам подробно рассказывается, как он это делает. Став юродивым, герой преодолевает естественные потребности тела в чистоте, тепле, заботе, становится вшивым и грязным, нечувствительным к холоду. Не знаю, как другие читатели, но я кожей чувствовала, как тяжело все это писать Водолазкину, как вместе с героем он сам проходит через все эти нечеловеческие испытания плоти... Читать все это... порою хочется отложить книгу и больше не открывать.
В новом романе также есть страницы, способные отпугнуть читателей густотой физиологических подробностей. В самом деле, «размороженный» герой приходит в рядовую питерскую больницу навестить свою бывшую невесту, которой сейчас девяносто три года. Восемь коек, запах мочи, «бабка», к которой пришел посетитель, по словам товарок, «второй день в говне лежит, и никто не подойдет». Иннокентию предлагают бабку помыть, и процесс мытья опять-таки детально описывается.
Здесь ощущается явный перебор. Мне кажется, в художественных текстах некоторые вещи нужно опускать — и не только из сострадания к читателю, а еще из эстетического чувства соразмерности. «Под струей воды в судно летит кусок кала». Не буду говорить о неестественности такой сцены даже для наших много повидавших больниц, все же мужчинам (да еще и незнакомым) не дают мыть женщин. При всем при том прекрасно понимаю, что автору не до правдоподобия, ему эта сцена нужна.
Физиологизм — черта его таланта, необходимая краска палитры, такая же, как противостояние Ада и Рая. Рай, по мысли Иннокентия, отсутствие у времени движения, сплошное настоящее, радость присутствия, набор вещей, которые можно описать... Ощущения рая посетили Иннокентия после разморозки, когда он познакомился с молодой девушкой, внучкой его невесты, умершей сразу после его посещения больницы. Внучку тоже звали Анастасией. И как тут не вспомнить о греческом значении этого имени — «воскрешенная», «возвращенная». С Настей, ставшей его возлюбленной, а затем женой, к Иннокентию возвращаются и его молодость, и недовоплощенная любовь, и ощущение счастья.
О символике имен у Водолазкина. В предыдущем романе у Врача было несколько имен, в разные годы он носил имя Арсений, Устин, Амвросий и, наконец, Лавр. Смена имени соответствовала новой фазе его жизни и сознания. «Размороженного» зовут Иннокентием, затем возникает фамилия Платонов, Настя называет его Платошей, у него самого в процессе рефлексии рождается самоназвание «лазарь». Так звали пациентов профессора Муромцева, ждавших заморозки в островном лазарете. Имелся в виду евангельский Лазарь, с которым произошло чудо: Иисус воскресил его через четыре дня после захоронения, когда его тело уже начало разлагаться.
Фамилия Анастасии — Воронина, ее отец, профессор Воронин, был по доносу арестован и расстрелян. На Соловках Иннокентий встретил еще одного Воронина, чекиста, страшного мерзавца и садиста. «Как это? Почему? Или нет никакой закономерности в имени?» — размышляет «размороженный». В самом деле, одним и тем же именем названы полные противоположности — человек благородный и человек подлый. В сознании, однако, эта закономерность существует: сразу за своим вопросом герой говорит об Аде, который можно выдержать только мысленно замещая его Раем. Так и Воронина-мерзавца можно выдержать или вытеснить из сознания, зная о существовании Воронина — хорошего человека.
Как и в «Лавре», в «Авиаторе» автор играет со временем. В «Лавре» в события, происходящие в XV веке, вдруг вплетается то, что случится потом; в средневековом лесу обнаруживаются пластиковые бутылки; а речь персонажей, начатая на древнерусском, может закончиться современным канцеляритом. В «Авиаторе» сам замысел предполагает игру со временем. Герою приходится осваиваться в том времени, до которого он, вероятно, не дожил бы, если бы его жизнь протекала линейно. Он пропустил два поколения — своих неродившихся детей и внуков — Настя, по его мысли, могла бы быть их общей с Анастасией внучкой. Время, которое он не прожил, он пытается домыслить. Причем делает это исключительно с помощью описаний, ибо предметы и среда меняются мало и хранят в себе «время».
Есть у автора и еще один прием — «совмещение» времени. Герой вспоминает прогулку по Смоленскому кладбищу. Какое тогда было время года? Весна или осень? «... я уже не уверен, что мы ступали по листьям — скорее, по снегу... Проходя мимо Смоленской церкви, слышали журчанье — вода с крыши стекала в подставленные бочки». Осень, зима и весна объединены в этом описании. Или так: Иннокентий в сопровождении врача приезжает к дому, где когда-то жил. Здесь они с Анастасией однажды утепляли окна перед зимой. «Гейгер вытащил из портфеля бинокль и дал мне». И перед глазами Иннокентия тут же возникает зримая картина: «Ага, точно, вот мы с ней стоим, теперь все стало видно». Бинокль — как волшебное зеркало — помогает герою Водолазкина увидеть прошлое.
Персонажи Гейгер и Настя получились довольно схематичными. Хорошо видно, какими они задуманы: Настя — современная девушка, прагматичная и хваткая, «организующая жизнь», но при этом не лишенная такта и интуиции. Гейгер — в оправдание своей немецкой фамилиии — человек порядка и правил, прагматик, верящий в науку, из лучшей части питерской научной интеллигенции. Глубины у этих характеров нет, нет и прошлого. В этом смысле Гейгер, воскресивший Иннокентия, в чем-то уподоблен Богу. Он окружен таинственностью, и мы не знаем, кто он, что он, откуда он взялся.
Легче всего сказать, что роман клеймит наше время, указывая на его видимую меркантильность, упадок культуры, одичание людей... Все это было бы так, когда бы не волшебный город, столь любимый Иннокентием, ставший одним из героев романа, он остался — значит, не все потеряно. Правда, это особый Петербург — Петербург старинных кладбищ, церквей, соборов. Смоленское, Никольское кладбища, Князь-Владимирский собор — все эти места, по-видимому, очень дорогие для автора, значимы и для его героя.
Иннокентий — человек верующий. При этом он совершает убийство. И хотя убил он соседа-доносчика, все же трудно это совместить с христианским «не убий». Анастасия «заказала» того, кто донес на ее отца, — оправдание слабое. Убийство имеет символический оттенок — оно совершено с помощью гипсовой Фемиды. Так что же? Иннокентий осуществил акт правосудия, воздаяния? Момент непонятный, плохо отрефлектированный героем (скороговоркой и в самом конце) и не проясненный автором.
Текст Водолазкина содержит некую философему, которую нелегко, а может быть, и невозможно до конца разгадать. Конечно же, это парабола о воскресшем Лазаре, но воскресение героя Водолазкина пришлось на иную историческую эпоху, что осложнило его «адаптацию». И если евангельский Лазарь после воскрешения прожил еще тридцать лет, служил епископом и тихо умер уже навечно, то воскрешенному Иннокентию суждено прожить всего полгода, изведать счастье взаимной любви, попытаться — и не суметь приспособиться к «телевизионно-компьютерной» жизни и уйти из нее не в смерть, а в полет.
Автор дал своему герою умереть Авиатором. И опять скажу, что с точки зрения верности жизни этот сюжетный ход не оправдан. Иннокентий, чей организм неожиданно стал отказывать, послан Гейгером в Мюнхен на медицинскую консультацию — один, без сопровождающих. Назад он возвращается тоже один, самолет терпит крушение...
Что ж, «Лазарь» умер не на больничной койке, не от болезни, которая неотвратимо разрушала его тело, он ушел, оставив после себя свое зернышко, девочку Аню, ребенка, рожденного Настей. И в последнюю минуту жизни он мог почувствовать то, что чувствовал авиатор Фролов из его дореволюционного детства и разбившийся «летун» из стихотворения Блока.
«Бабушка читает “Робинзона Крузо”» — последняя фраза книги.


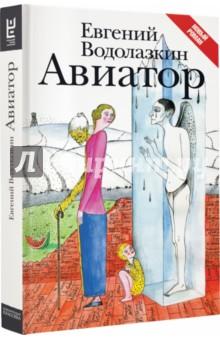


Добавить комментарий