О классике и о популярности
Ирина Чайковская: — Соломон, у меня было ощущение, что писатель Довлатов — это вчерашний день. И вот взялась перечитывать его «Зону», «Заповедник» — и не могла оторваться, чего со мной давно уже не случалось. Классик?
Соломон Волков: — Для меня вопрос — что значит «классика»? Этого, я думаю, никто не знает. Воспринимается это обозначение как безразмерный носок, в который можно напихать все что угодно. Каковы критерии отнесения к классике, совершенно не ясно. Тиражи? Популярность? Место в общественном дискурсе? Признание в академических кругах?
— Могу объяснить, что я вкладывала в это слово. Смысл был заложен в самом вопросе. Классика — это то, что на все времена: на вчера, на сегодня и на завтра.
— Категорически не согласен. «На все времена» не может быть ничего. Как у Ильфа и Петрова: «не может быть вечной иглы для примуса». Нет литературы «на все времена», включая Гомера, Данте, Пушкина...
— Соломон, не будем сразу кидаться в драку. Для меня «вечная» литература существует, для вас нет, нормально. Вернемся к Довлатову. Он современен, на ваш взгляд?
— На моих глазах резко убыстряется темп смены канона, по поводу которого у некоего сообщества экспертов существует согласие. Они выбирают «актуальных» в данный момент авторов. С этой точки зрения Довлатов, конечно же, актуальный автор. В России он расходится огромными тиражами, его цитируют, он очень популярен. Можно, наверное, сказать, что на сегодня там он самый популярный автор короткого рассказа.
— Вы не ошибаетесь? Вот я набрала в ГУГЛе имя Сергей — в ответ получаю Мавроди, Брина, только не Довлатова. Довлатов был принят «на ура» в конце восьмидесятых — начале девяностых, когда его начали печатать в России, тогда-то и я его прочитала; а сейчас, как мне кажется, произошел спад интереса к его творчеству. Не знаю, может, он и читаемый автор по тиражам, но статей о нем в периодике не встречаю, звучат имена уже новых кумиров... А вот когда его читаешь, то видишь, что он не ушел в прошлое, что все, о чем он пишет, интересно и важно для нас, живущих сегодня.
— У него есть очень популярный сайт, он всплывает достаточно часто в интернете. Он в данный момент часто цитируется в обиходе. Может быть, у меня такое окружение? В моей семье Довлатова цитируют практически ежедневно. Бродского и Довлатова.
— У вас такое окружение, Соломон. Не обольщайтесь.
— И все же. Я бы сравнил Довлатова с Высоцким, популярность которого была «от пионеров до пенсионеров», причем в самых разных кругах общества. Последними признали Довлатова те, кого в Америке называют «академиками», университетская профессура. Но в их кругу, конечно, популярность Довлатова не сравнится с таковой Бродского или даже Пригова, Сорокина и Пелевина. С Довлатовым происходит то, что Саша Генис обозначил так: «То, что трудно читается, легко объясняется, и наоборот».
— С Довлатовым как раз «и наоборот».
— Ну да, у перечисленных мною авторов есть загадки, которые можно отгадывать, это увлекательная игра, и этим слависты с большим удовольствием занимаются. Очень хорошо об этом высказался Лев Лосев, который сам всегда стремился писать очень внятно, без ненужных сложностей. Он это ценил в других и говорил, что Довлатов знал секрет, как писать интересно, потому что он не был авангардистом. Для Лосева «авангардисты» — это те, кто не умеют писать интересно и придумывают всяческие фокусы, чтобы этот свой колоссальный, по его мнению, недостаток скрыть. А Довлатов обладал этим редкостным даром — писать интересно. Вот вы сказали, что не могли оторваться от книг Довлатова. То же самое, между прочим, говорил Бродский. Он всегда дочитывал Довлатова до конца, а это в его читательской практике была большая редкость.
— Довлатов мастер. Он магически плетет свой текст, у него нет ни случайных фраз, ни лишних слов. «Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях». Каково? Одна фраза — и полный портрет девушки, внешний и внутренний. Вы, я знаю, сближаете Довлатова с Чеховым. А для меня он соприроден Платонову, Бабелю, Зощенко. У них тоже фантастический язык. Довлатов из тех, кто занят языком, кого ведет не сюжет и не идея, а язык. И это затягивает и не отпускает.
— Для меня Довлатов похож на Чехова. Вспоминаю слова не очень сейчас популярного Максима Горького, который говорил, что у Чехова все ясно, все слова простые, каждое — на своем месте. Я думаю, что это лучшее определение довлатовской прозы. Не говоря уже о том, что идеологически Чехов и Довлатов были похожи — оба были представителями переломных эпох. Чехов писал тогда, когда Россия перебиралась от феодального состояния в капиталистическое, а Довлатов, попав в суперкапиталистическое окружение — Нью-Йорк — символ современного капитализма, — так много здесь узнал и столь многому научился, что оказался предвестником процессов, которые намечаются в России — перехода от феодально-советского состояния, в котором она до сих пор пребывает, к какому-то новому неизвестному «капиталистическому» будущему.
— Не знаем мы с вами, Соломон, какое у России будущее, начнешь его определять как капиталистическое — как раз ошибешься.
— Мы пророки плохие, согласен. Когда я читаю, что современники писали о Чехове, поражаюсь сходству с тем, что говорили о Довлатове. В этом смысле Корней Чуковский, которого я очень люблю как литературного критика и очень высоко ставлю...
— Он и был по призванию литературным критиком, а детским писателем сделался поневоле, после революции, поняв, что работа критика опасна...
— Он писал о Чехове: «Казалось бы, весь поглощенный своей артистической живописью, Чехов меньше всего притязал на роль проповедника и идейного вождя молодежи... Чехов словно щелоком вытравлял из нас душевную дряблость». Для меня это точнейшее определение психологического и, если угодно, этического воздействия довлатовской прозы. Он помогает молодым учиться слегка ироническому отношению к действительности, видеть абсурдность окружающего и «провоцирует» то, что у всех нас было в присутствии живого Довлатова: боязнь сказать какую-то пошлость или неверно звучащее слово. Он был такой «душевный камертон», обладал наивностью и чистотой, притом, что человеком был, как сейчас выражаются, непростым, мог себя вести по-всякому. Он не был идеальной фигурой. А вот вспоминающие Чехова пишут о нем как о почти святом человеке...
— Не так давно переведена книжка англичанина Дональда Рейфилда об Антоне Павловиче, там попытка собрать на него некий «компромат», но так и хочется крикнуть, как Маруся кричала доктору в «Цветах запоздалых»: не разочаруете.— Чехов был, пусть не святой, но очень хороший человек. Довлатова в святые никто, пожалуй, не запишет. Но его проза настраивает сегодняшнее российское поколение на правильный лад.
— Вы, Соломон, находите точки схождения у Довлатова и Чехова. Мне нужно подумать на эту тему. Пока они для меня в разных измерениях. У Чехова пропасть лежит между ранними вещами и поздними, а Довлатов сразу, с «Зоны», нашел свой стиль и ему не изменял. Чехов начал со смешных коротких рассказов, а кончил рассказами и пьесами, очень горькими, драматичными. Довлатов же наоборот, в повестях, написанных в Америке, гораздо более «позитивен», чем в тех, что писал до эмиграции. О российских повестях, особенно о «Зоне», хочется сказать, что они «эсхатологические», на них отблеск конца света, и они напоминают мне трагические вещи Бабеля и Платонова. В американских вещах гораздо меньше абсурда и больше юмора, есть в них что-то от Шолома-Алейхема...
— Если бы мы сейчас взялись составлять антологии русской литературы ХХ века, то Довлатов участвовал бы по меньшей мере в четырех. Первая — антология русского рассказа с условным названием «От Чехова до Сорокина». При ее составлении никто не обойдет Довлатова. Вторая — антология русской юмористики ХХ века. Мое для нее название «От Аверченко до Жванецкого». Третья — петербургская проза ХХ века. И четвертая — эмигрантская литература ХХ века. Тот факт, что при мало-мальски объективном подходе Довлатову обеспечено место в этих четырех антологиях, свидетельствует о том, что свою законную нишу в русской литературе он себе завоевал.
— Я же говорю, классик.
— Еще о популярности. Уверяю вас, если вы сейчас полистаете журнальные статьи за эти двадцать лет, прошедшие со смерти Сережи, вы там найдете много некогда громких имен, которые ныне как корова языком слизала, а присутствие Довлатова продолжает оставаться существенным, и я пока не вижу признаков спада этой популярности. Притом абсолютно не настаиваю на том, что завтра такой спад не начнется — за мою жизнь подъемы и спады происходили с самыми крупными фигурами. Хороший пример — репутация и влияние Блока. Он завоевал неслыханную популярность в России в предреволюционные годы. Затем еще бóльшую после своей безвременной смерти в 1921 году. А потом как-то все пошло на спад, чтобы потом возродиться в конце 50-х. Пик популярности Блока пришелся на мою юность.
— Вы же понимаете, с чем это связано. Блока в конце 50-х — начале 60-х стали изучать в школе, тогда в программе даже Есенина не было, не было никого — ни Ахматовой, ни Цветаевой, ни Мандельштама, ни Пастернака.
— Блок заменял всех, он для меня, во всяком случае, был русским поэтом номер два после Пушкина. А сейчас я смотрю, молодежь относится к Блоку чрезвычайно сдержанно.
— Боюсь, многие школьники даже не знают этого имени, как и всех прочих перечисленных нами поэтов. Для сдачи ЕГЭ они не нужны.
— Да и для меня сегодня имя Георгия Иванова гораздо привлекательнее по многим параметрам. Наверное, такое было бы дико услышать их современникам... Существует некий культурный рынок, и акции на нем непрерывно то поднимаются, то опускаются.
— Я, Соломон, остаюсь верна Блоку, хотя признаю, что поздний Георгий Иванов поэт удивительный. Но хочу заметить, что мы с вами ходим по кругу. Муссируем вопрос о довлатовской популярности. Вы считаете, что Довлатов так же популярен в России, как в конце 80-х, когда он завоевал российский книжный рынок. Мне кажется, что пик довлатовской популярности падает на Перестройку, именно тогда россияне его для себя открыли. Потом пришли другие авторы, и их было много. Сейчас имя Довлатова в массмедиа почти не упоминается, что говорит о падении популярности, но соглашусь, что процесс этот скачкообразный и каждый настоящий писатель в какой-то момент снова становится нужным и актуальным для большого числа людей. А кто-то — много и таких — читает Довлатова независимо от «рейтинга» популярности. Значит, интерес к нему существует. Но давайте пойдем дальше.
Американские мечты
Посмотрела на сайте: родители Довлатова его пережили — такая у сына была короткая жизнь — не дожил до 49 лет. В России Довлатов воспринимал жизнь как «минное поле», и он — «в его центре». Уезжать не хотел, но был вынужден уехать. Что дала ему Америка? Представляется, что эти двенадцать американских лет были для Довлатова подарком судьбы. Недаром он писал в эпиграфе к «Заповеднику»: «Моей жене, которая была права» (что стремилась в эмиграцию, — И.Ч.). Вы все эти годы с ним общались, что скажете?
— Первое, что хочу сказать, что эти двенадцать лет в Америке принесли Довлатову как минимум десять лет жизни. Главный абсолютный смысл его жизни — был в писательстве. Это было то, ради чего он жил. Америка, дав ему осуществиться как писателю, его спасла. Довлатов умер очень рано, но в Советском Союзе он мог бы погибнуть гораздо раньше, потому что та болезнь, о которой знают все читатели Довлатова...
— Он ее и не скрывает. Вы говорите об алкоголизме?
— Ну да. Он был алкоголиком в Советском Союзе, и крах его писательских устремлений там, на родине, гораздо раньше, чем в Америке, привел бы его к концу. И конец его мог быть какой угодно. В этом своем состоянии он мог бы ввязаться в пьяную драку, загремел бы в тюрьму, попал бы в лагерь уже не в качестве охранника, а в качестве зэка.
— Что в России почти одно и то же. Читала материал о девушке, которая переписывалась с Довлатовым, когда он был в армии; так она поначалу боялась отвечать на его письма, хотя был он не заключенный, а надзирающий... А вообще, судя по «Зоне» Довлатова, жизнь охранников и зэков, и вправду, мало чем отличается.
— И что там произошло бы с его обидчивостью, с аккуратизмом — он был страшный аккуратист и очень пунктуальный человек...
— Да? Его автобиографические герои живут, как правило, среди ужасного беспорядка и хаоса.
— Я думаю, что пунктуальность и стремление к порядку — от его болезни. Тот хаос, который в тебе бродит, нужно как-то усмирить. Он был чрезвычайно точный человек. Если он говорил, что придет в пять часов, то ровно в пять он появлялся на пороге. Ненавидел расхлябанность, необязательность — типичные черты для человека из России. Повторю еще раз: Довлатову в Америке удалось напечатать практически все, что он написал, — и это продлило ему жизнь.
— Значит, в Америке Довлатов воплотил в жизнь свои мечты?
— Все, что связано с Довлатовым, имеет параллельные смыслы. Он и в Америке не добился того, о чем мечтал. Я всегда вспоминаю польского юмориста Ежи Леца, говорившего: «Сбылись самые смелые наши мечты, пришла пора на несмелые». У Довлатова сбылись самые смелые мечты, а самые несмелые не сбылись. Он все время подчеркивал, что не имеет особых амбиций, никогда не равнял себя с великими, с тем же Чеховым... Как известно, он именовал себя не писателем, а рассказчиком. Планку выше Куприна, которого, я считаю, он превзошел, — не ставил.
— Некорректны все эти сопоставления, Соломон, давайте их оставим.
— Однако, на самом деле он считал себя выдающимся писателем, каковым и был.
— Лучше добавить, что это вы так думаете, ведь вы не слышали от него таких признаний?
— Не слышал. Так вот, Америка ему в этой позиции отказала.
— Ничего себе «несмелые мечты» — добиться, чтобы тебя признали выдающимся писателем, да еще не на родине!
— Здесь понятие успешного писателя связано с двумя показателями. Или нужно быть автором бестселлеров, или стать любимцем университетской профессуры. Он не стал ни тем, ни другим.
— Довлатов печатался в «Нью-Йоркере» — неслыханная вещь! В «Нью-Йоркере» из русских печатались единицы. Это, по-вашему, не признание?
— О «Нью-Йоркере» особый разговор. «Нью-Йоркер» — это многотиражный журнал для высоколобых, это одна из аномалий американского журнального рынка. «Высоколобый» журнал, издаваемый массовым тиражом, который можно найти на столике у любого дантиста. Когда Довлатов там печатался, у них был полумиллионный тираж, сейчас вообще миллион. Они напечатали десять рассказов Довлатова. Кроме Набокова, Бродского и еще нескольких проходных фигур, из русских у них никто больше не печатался. Попадание туда Довлатова было невероятной удачей. Она странным образом не транслировалась в продаваемость его книг. Казалось бы, если ты напечатался в «Нью-Йоркере», там тебя прочла такая огромная аудитория, и людям понравилось — а об этом говорит то, что его продолжали в этом журнале печатать, — значит, книжки должны были расходиться массовыми тиражами. Но этого не было.
— Возможно, книжки читают не те люди, что выписывают «Нью-Йоркер». Другая аудитория.
— Теоретически это должно было выглядеть так: все пятьсот тысяч читателей «Нью-Йоркера», ознакомившись с рассказами Довлатова, восхитились и кинулись покупать его книги. Почему этого не случилось?
— Есть многое на свете, друг Гораций...
— А с другой стороны, он не стал любимцем университетской элиты, которая так щедро приняла Бродского, дала ему так называемую «премию Гения», премию фонда Макартура, потом он получил Нобелевскую премию, будучи еще не старым человеком. Довлатову — как он понял — ничего этого не светило. Я-то как раз считаю, что его предсмертный кризис, тот последний большой запой, который привел к его смерти, был связан с осознанием вот этой двусмысленности своего положения. Он в последнее время довольно часто говорил: теперь я знаю, чего я достиг, — я средний писатель, и у меня жизнеощущение среднего писателя.
— Соломон, могу я высказать свое предположение? Почему вы не допускаете, что предсмертный кризис Довлатова был вызван тем, что его не знали и не печатали на родине? Ведь по-настоящему он стал там известен только после смерти. Все же главная аудитория русского писателя не в Америке, согласитесь. Американцы читали его книги в переводе, и тот потрясающий русский язык, которым написаны его рассказы и повести, кем этот язык мог быть услышан и оценен? Собратьями по перу? Горсткой эмигрантов? И это трагедия. Бесспорно трагедия. Признание в Америке? Да наверное, он понимал, что у Бродского перед ним все преимущества. Бродский и лекции читал в университетах, и говорил и писал по-английски, и был нобелевским лауреатом, и раньше оказался за границей...


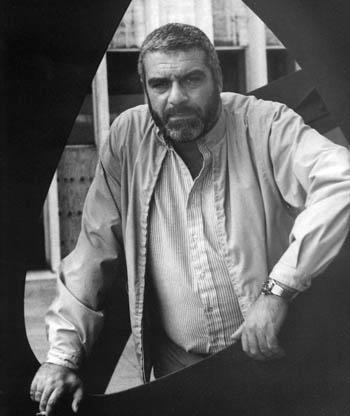





Добавить комментарий