Знакомство с музыкой началось еще до того, как я научился разговаривать, — с «Подгорной», которую сосед по коммуналке вечера напролет наигрывал на гармошке. А когда мы переехали в отдельную двухкомнатную квартиру на улице Орджоникидзе, мой отец иногда под настроение напевал «Кирпичики». Мама укачивала меня под «Вот солдаты идут…». А по радио звучали другие патриотические песни, песни народные, хоровые и сольные. Репертуар расширялся. Мелодии запоминались сразу, а слова не имели значения. Мотивы постоянно звучали в моей голове, и я их легко интонировал своим тонким голоском. Мама умилялась и рассказывала про мой «талант» своим знакомым, среди которых я слыл музыкальным вундеркиндом.
В марте 1953 года по радио передавали музыку Чайковского и непонятные сообщения о Чейне-Стоксе. Мама объяснила, что эти слова, которые мне почему-то понравились, на самом деле означают неправильное дыхание. Так дышал больной товарищ Сталин. Было тревожно на душе, потому что родители молчали, и все дни напролет звучала печальная музыка. А потом он вообще умер. И по радио снова и снова играли Шестую симфонию. И каждый раз она вызывала слезы. В тот день определился мой музыкальный вкус: «Шестая» победила «Кирпичики». Я понял, что музыка бывает простая и серьезная. «Для серьезной, — думал я, — нужен специальный повод, например похороны». Мама объяснила, что это вовсе не обязательно, и серьезную музыку можно слушать и без всякого повода, просто для удовольствия.
Родители много работали и возвращались домой поздно. А я был как бы сам по себе. По утрам приходили няни, нанятые мамой, чтобы присматривать за мной. Приходили, потом исчезали и появлялись новые. С ними не везло. Некоторые сильно щипались и наставляли мне синяков. А те, которые не щипались, занимались своими делами, и на меня внимания не обращали. Одна такая тетя по имени Зоя посадила меня на подоконник у открытого окна смотреть на прохожих и ушла красить ногти. Прохожие подняли крик и позвали милиционера. Он поднялся в нашу квартиру и составил протокол. Меня он взял в милицию, где было очень интересно. Но я не успел как следует оглядеться, потому что меня почти сразу забрала мама. А вскоре у нас появилась новая, очередная няня, да и та ненадолго. Других контактов с внешним миром у меня тогда не было, а если и были, то не запомнились.
Так продолжалось долго, но однажды жизнь резко переменилась. Отчаявшись найти подходящую няню, мама пошла на риск и решилась оставлять меня одного на весь рабочий день. Мне это страшно понравилось. Больше меня никто не щипал. И в доме появился проигрыватель и коллекция пластинок. Она уходила на работу, а я оставался один, играл в бесконечную войну со своими оловянными солдатиками и весь день слушал музыку.
Нашими соседями по площадке была семья Мельниковых: дядя Володя, тетя Оля и их двое детей. Дядя Володя был кумиром моего раннего детства. Внешне он походил на царя Петра из одноименного кинофильма 1937-года в исполнении артиста Симонова. Просто вылитый Петр: грива темных волос, усы, высокий лоб, горящие любопытством глаза и стать, самая настоящая, благородная, аристократическая. У «царя» не было левой ноги. Он потерял ее на Финской войне и с тех пор ходил на протезе. Дядя Володя был меломаном с изысканным музыкальным вкусом, собирал записи классической музыки, играл на семиструнной гитаре, пел романсы и арии чистым оперным баритоном, вызывая слезы восторга у жены и ее подруг. Вокруг него всегда собирались люди, а трехкомнатная квартира Мельниковых превратилась в место, которое бы сейчас назвали клубом по интересам. А для меня это был храм музыки и знаний.
Со временем я выучил арии из опер Верди, Чайковского, Гуно, Бизе и Моцарта. И многие мог воспроизвести с начала и до конца, даже не понимая фабулы и слов. Но и без слов я переживал их драматизм и красоту. А в увертюрах слов и вовсе не было. Зачем такой красоте и силе пустые слова? У музыки свой собственный язык. И однажды в нашем разговоре я заявил, что на месте Верди все слова бы выкинул и заставил Шаляпина петь без слов.
Дяде Володе идея понравилась. Он сказал, что музыку можно мурлыкать или лялякать. «Но, — объяснял он — композитор сочиняет оперу, чтобы рассказать историю. А без слов всей истории не расскажешь. Разве по одной музыке можно понять, зачем Хосе зарезал Кармен?» Нет, мне это было не понятно даже со словами. Так что слова только мешали. Но он был для меня высшим существом, знал все, и не верить ему было нельзя. И постепенно некоторые слова в операх стали приобретать смысл. Я распевал арии, подражая Шаляпину, Собинову, Лемешеву, Эйзэну и Козловскому.
А в 5-летнем возрасте дал свой первый публичный концерт. Это случилось перед самым Новым годом в универмаге на Проспекте Металлургов в отделе, где продавали елочные игрушки. Была страшная очередь и давка. Со всех сторон меня окружали ноги в сапогах, ботинках, ботиках, валенках с калошами и без калош, все однообразного черного цвета. А где-то там, наверху, на полках и прилавках, находились вожделенные, но невидимые мне елочные игрушки. Между лесом ног оставались узкие тропинки. И мне, пользуясь тем, что мама на минуту отпустила мою руку, удалось пробраться к самому прилавку и, немедля ни секунды, вступить в разговор с продавщицей.
— Тетенька! — перекрывая гул толпы, громко крикнул я. — Дайте мне елочные игрушки! Пожалуйста! А я вам за это спою.
Стоя на цыпочках, я мог видеть ее широкое лицо и волосы, собранные в толстый пучок, как у большой луковицы. Лицо мне сразу понравилось. Оно смотрело строго, но было добрым, как у феи в сказке о спящей красавице.
— Ты куда лезешь, мальчик? Здесь очередь! — возмутился рядом неприятный голос.
Но тут меня кто-то взял на руки и поставил на прилавок. Открылось все огромное пространство магазина, головы в шалях и шапках, прилавки с коробками, в которых красовались разноцветные и разнообразные елочные игрушки, снегурочки, деды морозы, щелкунчики, гирлянды и серпантины. Там было много других замечательных вещей, которые я не видел раньше. А вдалеке стояла большая наряженная елка, и на ней горели веселые огоньки. Я стоял и, не отрываясь, смотрел на елку, игрушки, людей, занимавших все пространство торгового зала. А они смотрели на меня.
— Пусть споет! — сказал сначала один, а потом еще несколько голосов.
— Ну, спой, — сказала продавщица и одобряюще улыбнулась.
И я громко запел. Нет, это не была оперная ария. Я пел «Кирпичики», жалобную песню про то, как по кирпичикам растащили кирпичный завод, а потом построили назад. Я спел ее до конца под одобрительный шум и смех слушателей, а потом повторил первый куплет. Меня прервал громкий крик мамы: она пробивалась сквозь толпу к прилавку.
— Пустите! Это мой ребенок! — повторяла испуганная мама, которая меня потеряла и теперь нашла. — Пустите!
Но ее и так никто не останавливал. Наоборот, толпа подобрела, и ей помогали протиснуться вперед. Она наконец оказалась у прилавка, схватила меня как куклу и прижала к себе.
— Нашелся! — успокоилась она и понесла меня к выходу.
— Постойте, гражданочка! — прокричала продавщица. — Купите артисту елочные игрушки. Отпустим без очереди. Правда, товарищи?
Толпа согласно загудела и опять расступилась. Мама купила красивую верхушку с кремлевской звездой, 2 серебряных зайцев, 2 белок и 1 домик с веревочками, чтобы подвешивать на елку, а также больших Деда Мороза и Снегурочку, чтобы ставить рядом. И мы понесли эти сокровища домой, где я сообщил отцу о своей удаче. Отец был страшно рад. Ведь «Кирпичики» и «Мурку» я слышал от него. Они сразу запомнились и вошли в мой репертуар.
Впечатленная мама привела меня в музыкальную школу. А там были вступительные экзамены, на которых задавали разные глупые вопросы.
— Тебе сколько лет, мальчик? — спрашивала полная, строгая тетя.
— Шесть, — с достоинством отвечал я. — Но через год будет семь или семь с половиной.
— Рановато тебе к нам.
— Он дарование, — вступилась за меня мама.
— Он все оперы Верди на память знает.
— Так уж и все… — с сомнением произнес дядя, принимающий экзамен. — Хорошо, послушаем. Ты что будешь петь?
Я спел арию Мефистофеля с большой экспрессией и драматизмом. «Сатана там правит бал» вызвал живой интерес. А я вошел в образ, вообразив себя солистом Большого театра. Затем исполнил «Блоху» Мусорского, бетховенского «Сурка» на итальянском и под конец «Мурку». К этому времени в комнату набилось много людей и стало шумно. Они смеялись. Мой репертуар им явно нравился. Но здесь меня остановила мама. Она прижала ладони ко рту и громко прошептала: «Не надо, Борь. Это плохая песня». Я обиделся и сказал, что хорошая. Полная тетя попросила тишины, а потом выгнала всех, кроме мамы, меня и дяди экзаменатора, который вытирал слезы носовым платком и хохотал.
— Вы нас извините, — пустилась в объяснения мама. — Это он с улицы принес.
— А о чем эта песня? — широко улыбаясь, спросил экзаменатор.
— О Гражданской войне! — сказал я. — Но, если вам не нравится, я могу спеть «У любви, как у пташки крылья». Это о Кармен. Ее зарезали ножиком.
— Мы такого в школе не преподаем. Может, вам, мамаша, с частным педагогом лучше позаниматься? Скажи, Боря, зачем тебе музыкальная школа?
— А я и не хочу ни в какую школу. Мне просто музыка нравится, — честно ответил я.
Экзамен кончился. Я смутно догадывался, что сделал что-то не то. Мы шли домой пешком по Проспекту Металлургов. Под мостом текла река Аба. Она была черного цвета. Поток воды быстро пробегал по руслу канала под мостом, создавая завихрения возле бетонных стен, походившие на маленьких живых барашков. Мне нравилось на них смотреть, и я останавливался на мосту и забывался. Однажды мама меня там потеряла: она шла и шла, и так пришла домой, а я все стоял на мосту и смотрел. В этот раз мы шли за руку.
Расстроенная мама ругала меня за «Мурку» и говорила, что теперь меня в школу не возьмут. А я радовался. Но радовался зря, потому что меня- таки взяли. Теперь радовалась мама. Но тоже недолго. В школе меня пытали на уроках сольфеджио, заставляя делать дурацкие вещи. А мне было неинтересно рисовать скрипичный ключ и угадывать, куда идет звук, вверх или вниз, с повышением или понижением.
И уроки фортепиано проходили скучно. Меня заставляли считать целые, половинки и всякие восьмушки. У меня в голове звучала вторая часть 7 симфонии Бетховена, а учительница заставляла играть какой-то этюд какого-то Черни и вдобавок считать «и раз, и два, пауза, и три». Это называлось ритмом. Я страдал, не понимая, за что мне досталось такое несчастье. Ну да, есть ритм, бекары и бемоли, и всякие там легато. А я-то при чем? И однажды, придя в полное отчаяние, я взмолился:
— Тетечка, Полина Семеновна, отпустите меня на волю. Я не хочу учиться. Я хочу просто слушать музыку. Отпустите, пожалуйста, очень прошу! Я вам за это спою Мурку!
— Ну ладно, Боря, иди с богом. — С большим облегчением выдохнула Полина Семеновна. — Я же говорила твоей маме: тебе еще музыке учиться рано. Приходи, когда повзрослеешь. Может получиться. Вот тогда Мурку и споешь…
Далась тебе эта Мурка!
Я бросился к ней обниматься и только повторял:
— Нет, я больше никогда не приду, никогда- никогда. Даю честное слово!
— Подожди, — спохватилась учительница, — надо же с мамой поговорить!
Мама ужасно расстроилась. Это было крушение ее надежд. — А зачем я тогда купила пианино?!
Это был еще нестарый инструмент, который назывался «Украина», изготовленный в 1939 году на фабрике города Чернигов. У него был приятный звук, но он не держал строй. Достать инструмент в те годы было очень непросто. Их было всего несколько на весь город. Несчастная мама долго искала случай, и вот теперь у нас был инструмент, но на нем было некому играть. Мама заплатила за него непомерную цену и влезла в большие долги. «Украина» стоила дороже «Москвича». Теперь надо было отдавать половину зарплаты каждый месяц в течение трех лет. А продать инструмент было уже нельзя — у него обнаружился дефект. Не держали колки, и их нужно было все время настраивать.
Мне стало жалко маму. Я пообещал, что обязательно научусь играть. И научился. Даже окончил вечернюю музыкальную школу. Оказалось, что я был, что называется, природным слухачом и принадлежал к породе людей, из которых получаются таперы - музыканты, когда-то игравшие в кинотеатрах между сеансами. Я мог с легкостью воспроизвести любую мелодию, сходу наиграть ее на фортепиано и подобрать нехитрый набор аккордов для левой руки. Со временем составился репертуар моих любимых мелодий. Я играл упрощенно и не был в состоянии использовать аранжировки, которыми свободно владеет любой профессионал.
Для слушателя аккомпанемент левой руки должен был звучать довольно примитивно. Но это неважно. Потому что я играл для себя. Играя, я слышал не свои простодушные аккорды, а могучую полифонию лучших оркестров, которые звучали из концертных залов моей памяти. И мелодии на самом деле играл вовсе не я, а великие музыканты моего внутреннего мира. Иногда звуки пианино исчезали, и тогда я слышал пение своих прежних кумиров, и чаще всего голос моего незабвенного царя Петра, дяди Володи, Владимира Андреевича Мельникова. «Эх вы, люли. Что уснули? Веселей гляди. Удалые, вороные, гривачи мои», — поет он своим бархатным баритоном и чутко перебирает струны гитары. Как жаль, что, кроме меня, это никто не слышит…
Прошли времена, и уже нет мамы и ее пианино, проданного за бесценок при очередном переезде. Профессиональным музыкантом я не стал. Но где-то внутри, потаенно, я все же чувствовал себя причастным к музыкальному миру. И каждый инструмент, на котором порой при самых случайных обстоятельствах мне доводилось играть, — это то самое пианино 1939 года, подаренное мамой в день, когда я бросил занятия музыкой и дал зарок, что это — навсегда.
-----------
Борис Найдич. Шторы. Рассказы о детстве. M-Graphics Publishing. Boston, 2025
Книгу можно приобрести на сайтах Amazon.com, Barnes-and-Noble, онлайн-портале Lulu.com

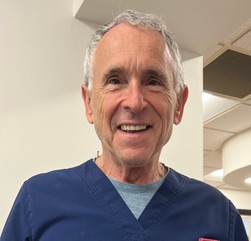


Комментарии
Рассказ Бориса Найдича Пианино
«Пианино» — тёплый и глубоко личный рассказ о том, как музыка формирует человека и остаётся с ним на всю жизнь. Точная интонация, живые детали эпохи и трогательный образ матери делают текст по-настоящему человечным и запоминающимся. Это проза о памяти, любви и внутреннем слухе. Язык рассказа живой, образный, лишённый нарочитой литературности. Автору удаётся говорить о серьёзных вещах легко и естественно, сохраняя интонацию доверительного разговора с
Добавить комментарий