Поводом для написания этой статьи послужил проведенный в июне с. г. журналом «Чайка» zoom: «Яков Фрейдин: Шекспир как литературная мистификация». О проведении этого zoom‘а я узнал от издателя моей книги[1]. Эта книга была доброжелательно и основательно отрецензирована Юлией Баландиной в «Новом журнале» № 317/2024[2], поэтому неудивительно, что мне захотелось не только познакомиться с еще одним мнением о т.н. «Шекспировском вопросе», но и принять участие в обсуждении.
Увы, в ходе этого zoom‘а у меня возникло стойкое ощущение, что в моем выступлении нет никакого смысла, причем сразу по двум причинам. Первая причина заключалась в ограниченном времени, даваемым для комментариев, а вторая - в построении лекции, которая состояла из двух неравнозначных частей.
В первой части Яков Фрейдин с использованием многих прежде неизвестных данных убедительно (по крайней мере для меня, а я являюсь анти-стратфордианцем со стажем) еще раз доказал, что действительно живший в конце XVI-го, начале XVII-го века актер и предприниматель Шекспир (Шакспер) не мог быть автором таких перевернувших всю мировую драматургию шедевров, как «Гамлет» или «Макбет». И этим доказательствам не мешали даже некоторые, как их любил называть знаменитый в свое время политический деятель, «торопливые преувеличения» лектора.
В частности, католическая церковь не могла в IV веке н.э. запретить античный театр, т.к. это понятие впервые появилось в 1054 г. после раскола христианской церкви на Западную (католическую) и Восточную (ортодоксальную или, как ее называют в России - православную), а театр как таковой запретил еще римский император Константин Великий в рамках принятия христианства.
А вот с гипотезой Якова Фрейдина о том, что произведения Шекспира писали сразу несколько авторов, которую он попытался объяснить во второй части своей лекции, я никак не мог согласиться, но для основательных возражений требовалось много времени, которого, как я упомянул выше, уже не было. Поэтому я и пытаюсь обосновать свои возражения против этой гипотезы в этой статье.
Основным возражением против этой гипотезы является факт, что Яков Фрейдин отказался, неважно, сознательно или случайно, от основополагающего принципа, которому должна соответствовать любая новая теория - т. н. бритвы Оккама[3], принципа, хорошо известного любому, кто занимается точными науками и который требует от исследователя не привлекать новых сущностей без крайней необходимости. При этом аргумент, что словарь Шекспира содержит 20000 слов, а словарь других приведенных в докладе авторов не превышает 9000 слов, поэтому за Шекспира писали несколько человек, выглядит несколько натянутым. Словарь Гете, например, превышает 23000 слов, но никто же не подвергает сомнению, что монументальный «Фауст» написан именно Гете.
Не вполне корректным выглядело и упоминание в этом анализе имени философа Бэкона, из рассказа Якова Фрейдина вытекало, хоть он этого прямо и не сказал, что речь идет об опубликованных трудах Бэкона, а они все посвящены политической философии и юриспруденции, а для таких сравнительно ограниченных по терминам областей 9000 слов это на самом деле даже чересчур много.
Но развернутые возражения лучше всего начать с упомянутой благожелательной рецензии на мою книгу. При всей ее основательности у меня по прочтении возникло ощущение, что некоторые моменты, особенно затронутые в первой рассказанной в книге истории и касающиеся моей гипотезы, скорее, даже утверждения, что самые знаменитые пьесы Шекспира писал не он, а совсем другой человек, Юлия Баландина задела только вскользь.
И виноват в этом в сущности только я сам, это произошло потому, что выбранная форма повествования (беседа рассказчика с самим Шекспиром) не позволила мне дать этому рассказчику больше знаний о предмете, чем имеет любитель пусть он даже достаточно образованный человек. И поскольку это ощущение не только никак не покидает меня, но даже усиливается, особенно после переданных мне издательством похожих вопросов некоторых читателей, я считаю необходимым объяснится дополнительно.
Читатели и самой книги, и рецензии Юлии Баландиной на нее, знают, что по основной своей профессии я инженер-электрик со степенью доктора технических наук, поэтому совершенно естественным для меня выглядит попытка разъяснить возникшие вопросы так, как я привык делать в своей профессиональной деятельности, т. е. вместо дополнения к вышеупомянутой книге написать отдельную пояснительную записку, как это делается для сложных проектов в энергетике. Кроме того, такая форма не только позволяет избегнуть возможных упреков в том, что я пытаюсь как-то оправдать отмеченные рецензенткой некоторые неточности в повествования, но и позволяет спокойно полемизировать с изложенной в лекции Якова Фрейдина гипотезой.
Поэтому с самого начала я должен отклонить незаслуженную похвалу Юлии Баландиной, что мне «для придания большей убедительности» пришлось «прибегнуть к небольшой мистификации» и разъяснить, что я просто использовал метод, придуманный замечательным немецким писателем Э.Т.А. Хоффманном (в русскоязычной литературе его почему-то называют Гофманом, но вопрос искажения собственных имен в русских переводах - это отдельная тема, я не понимаю, зачем при наличии в русском языке всех звуков, необходимых для правильного произношения иностранных имен, искажать их) и впервые использованный им в рассказе «Кавалер Глюк. Воспоминание 1809 года».
В свое время Хоффманн посылал в несколько музыкальных журналов статью, где критиковал исполнение немецкими, в частности, берлинскими оркестрами оперы Глюка «Армида», но все они отвергли эту статью, написанную, по их утверждению, дилетантом.
Тогда он написал вышеупомянутый рассказ, в котором к автору приходит незнакомец, который исполняет «Армиду» именно так, как писал в своей статье Хоффманн, и оказалось, что к нему приходил сам Глюк, и, хотя Хоффманн и не пытается объяснить, каким образом умерший за 20 лет до рассказываемой истории композитор пришел к нему, но «Армиду» стали исполнять именно так, как описано в рассказе. Поскольку эту идею многократно использовали не только сам Хоффманн, например, в «Дон Жуане» или в «Жизненных воззрениях кота Мурра», но и многочисленные его последователи, например, М. А. Булгаков в «Иване Васильевиче» или «Мастере и Маргарите», я счел возможным тоже использовать её, чтобы таким образом привлечь внимание к своей вполне, как мне кажется, научной гипотезе.
Я и не пытался скрыть это, не только написав в подзаголовке, что обе рассказанные в книге истории написаны в духе Хоффманна, но и начав 1-ю историю прямой цитатой из «Кавалера Глюка». Вероятно я все же должен был помнить, что вещи, понятные немецкому читателю, хорошо знающему творчество Хоффманна (я напомню, что эта книга - авторский вариант немецкого издания), нужно подробнее разъяснять русскоязычному читателю, чтобы он мог правильно понять причину и смысл этой ссылки на творчество Хоффманна.
И хотя Юлия Баландина с самого начала написала, что «в задачу данной рецензии не входит вынесение суждений относительно доказательной базы предлагаемой Виктором
Зильберманом гипотезы», она все же справедливо упомянула, что спор относительно истинного авторства произведений, издаваемых под именем актера Шекспира из Стратфорда, давно ведущийся между сторонниками и противниками утверждения, что эти произведения действительно созданы Шекспиром, т.е. спор между стратфордианцами и антистратфордианцами соответственно «порой наводит на мысль о религиозном характере противостояния - в том его смысле, что для участников баталий поиск истины заместился вопросами верований».
Но, если искать истину, то логично начать с аргументов сторон. Известно, что стратфордианцы используют как доказательства: a) тот факт, что их оппоненты предлагают в качестве «истинного» автора несколько кандидатов; b) документальные записи современников, в которых Шекспир упоминается, как «известный автор»[4]; c) утверждение, что аргумент антистратфордианцев «нет доказательств авторства Шекспира» является примером ошибочной логики, так называемым argumentum ex silentio, т. е. аргументом, выведенным из умолчания, - отсутствие доказательств является доказательством отсутствия; d) изучение стиля рассматриваемых произведений. Антистратфордианцы упирают в основном на блестящее в сравнении с актером Шекспиром образование «своих» кандидатов и … тоже на изучение стиля рассматриваемых произведений. Что интересно, рецензентка отметила, что в наше время как те, так и другие начали обосновывать свои версии «основываясь на современных методах анализа текстов» (это же упомянул в своей лекции и Яков Фрейдин).
Для меня же, как человека, проведшего всю свою профессиональную жизнь в дискуссиях, пусть и технических, важным является упоминание Юлией Баландиной факта, о котором я не знал, что стратфордианцы употребляют в отношении своих оппонентов «несколько уничижительное выражение fringe theory / fringe science», что стало для меня не только дополнительным свидетельством слабости позиции людей, позволяющих себе стиль дискуссии с навешиванием на оппонента ярлыков, но и укрепило, пусть и не напрямую, мнение, что стратфордианцы действительно просто находятся в плену литературной традиции…
Теперь самое время объяснить сюжетный ход, очевидный для немецкого читателя и не замеченный русскоязычным читателем - по моей вине, как об этом уже было сказано. В рассказе Хоффманна пришедший к рассказчику композитор Глюк просто играет «Армиду» так, как это представлял себе автор. В новелле «Сосед», которой открывается рассматриваемая Юлией Баландиной книга, встретившийся рассказчику Шекспир предлагает ему решать свои возникшие сомнения, используя… да, именно принцип бритвы Оккамы.
В соответствии с этим принципом можно, как это и сделал Яков Фрейдин, считать доказанным абсолютно, что существовал человек Вильям Шекспир (Шакспер), бывший акционером и актером труппы The Lord Chamberlain’s Men, которой принадлежал лондонский театр «Глобус», где ставились перевернувшие всю мировую драматургию пьесы, автором которых назывался именно этот актер.
Кроме того, под его именем были опубликованы 154 замечательных сонета, первая часть которых обращена к мужчине, а вторая - к женщине. Но коль скоро существовали и существуют люди, а среди них были такие незаурядные, не похожие друг на друга личности, как Марк Твен, Зигмунд Фройд (его в России называют Фрейдом, но о произношении иностранных имен я уже писал в начале статьи) и Чарли Чаплин, считавшие, что эти произведения писал другой человек, прикрывавшийся именем актера Шекспира (хотя, строго говоря, наличие самых знаменитых имен ни о чем еще не говорит, ведь даже величайшие мыслители своего времени не сомневались, что наша Земля - плоская, но тем не менее), раз такое мнение все же существует, то из всех кандидатов должны быть сразу исключены люди, у которых не было никаких причин скрывать свое имя, например знаменитый поэт и драматург Бен Джонсон или поэт Кристофер Марло.
Поэтому, если Яков Фрейдин предполагает, что и Бен Джонсон принадлежал к группе, скажу сразу мифической группе авторов, писавших под именем Шекспира, то для начала ему следовало бы также выдвинуть дополнительную гипотезу, почему комедию «Вольпоне» Бен Джонсон писал под своим именем, а комедию «Венецианский купец» под именем Шекспира. Нет, скрывать свои имена должны были люди, принадлежащие к высшей елизаветинской, а позже и якобианской знати, среди которой считалось дурным тоном иметь что-то общее с театром, кроме покровительства актерам, разумеется.
Среди них антистратфордианцы предлагают, как наиболее вероятные кандидатуры Эдуарда де Вера, 17-го графа Оксфорда, философа и государственного деятеля Фрэнсиса Бэкона, Уильяма Стэнли, 6-го графа Дерби и Роджера Мэннерса, 5-го графа Ратленда. Вот для них в соответствии с требованием бритвы Оккама и нужно найти т. н. реперные точки, т. е. события, которые однозначно истолковываются всеми и никем не оспариваются. В упомянутой книге рассмотрены несколько таких точек: евреи в пьесах Шекспира, заговор графа Эссекса и 74-й сонет Шекспира, написанный после провала этого заговора и начинающийся с возможного ареста автора сонета, а также пороховой заговор и его неявное отражение в «Макбете».
В истории «Сосед» разобраны отношения всех упомянутых претендентов на творения Шекспира без названия из имен, а в заключении книги, названном «Краткое размышление» читателю предложено самому определить автора «шекспировских» произведений, опираясь на приведенные в Google биографические данные этих четырех кандидатов. Но поскольку существует некоторое количество читателей, которые предпочитают не самим искать, а анализировать уже полученные результаты, то я хочу воспользоваться этой статьей, чтобы сообщить им, что всем приведенным в рассказанной истории критериям удовлетворяет только один из перечисленных претендентов - выдающийся философ Средневековья Фрэнсис Бэкон, который по моему мнению и является действительным автором великих «шекспировских» пьес, начиная с «Ричарда III-го» и кончая «Бурей».
Ну и вишенка на торте - два соображения, которые я по уже упомянутым причинам не мог привести в истории, рассказанной в книге, но могу включить в эту объяснительную записку. Первое из них - это свидетельство Штефана Цвайга (которого в СССР и России печатали под именем Стефана Цвейга и который в западноевропейском литературном сообществе считается тем, кого в Германии называют Kronzeuge[5]) в его книге «Магеллан. Человек и его деяние».
Рассказывая о дневниках спутника Магеллана, итальянского рыцаря Пигафетты, из которых человечество собственно и узнало о подробностях путешествия Магеллана, Цвайг указывает, что описание одного из событий из этого дневника «сам Шекспир» использовал в своей «Буре». Но дело в том, что Шекспир никак не мог читать эти дневники, они впервые были опубликованы во второй половине XVI-го века во Франции на французском языке, которого Шекспир не знал.
Второе - это замечание для сторонников графа Оксфорда в качестве «истинного» автора. Эти оксфордианцы утверждают, что объективных доказательств датировки написания пьес Шекспира не существует, и это объясняет премьеры 11 пьес Шекспира после смерти графа. Даже, если их замечание о датировке пьес Шекспира и справедливо, то все равно де Вер, скончавшийся 24 июня 1604 года, должен быть исключен из списка претендентов.
Он никак не мог знать о провозглашении 20 октября 1604 года королем объединенного королевства Великобритании Джеймсом I-м Якова VI-го, бывшего до того лишь шотландским королем, который именно так, как 8-й наследник Банко с двумя державами и тройным скипетром в руках, представлен в 1-й сцене IV-го акта «Макбета». Ну и еще следует заметить, что гипотеза о существовании высокообразованного автора, писавшего не все, а только великие пьесы Шекспира и «его» сонеты, позволяет непротиворечиво объяснить и отмеченные всеми литературоведами вопиющий стилистический диссонанс между первыми и последними пьесы Шекспира и «его» действительно великими пьесами.
На этом можно было бы и закончить, но в конце мая я случайно увидел в YouTube беседу с Дмитрием Быковым об авторстве Шекспира. Я не принадлежу к поклонникам достаточно путаных литературоведческих взглядов неплохого поэта Быкова, поэтому меня совершенно не удивило, что после многочисленных рассуждений, долженствующих подтвердить авторство именно Шекспира, Быков внезапно обратил внимание на то, что только граф Ратленд мог знать имена Гильденстерна и Розенкранца, двух датских студентов, учившихся вместе с ним в университете итальянского города Падуя и перекочевавших в самую знаменитую пьесу Шекспира. Только это мешает ему, по его собственным словам, окончательно признать авторство Шекспира.
Поэтому мне хотелось бы объяснить, что этот факт мешает признать авторство только самого Шекспира, и совершенно не препятствует утверждению в качестве автора Фрэнсиса Бэкона, хотя последний и не учился в Падуе. Дело в том, что и граф Ратленд, и Фрэнсис Бэкон длительное время принадлежали к кругу графа Эссекса в то время, когда последний был фаворитом королевы Елизаветы, и оба пользовались его покровительством, неважно что пути Ратленда и Бэкона еще до заговора Эссекса, упомянутого в истории «Сосед», разошлись. Трудно представить, чтобы вращаясь в этом окружении два столь высокообразованных человека не делились воспоминаниями об их студенческих годах, которые оба провели за границей.
И не знавший ни датского языка, ни датских имен, использовавший в пьесе, действие которой перенесено в Данию, римские, кельтские и английские имена (в том числе и имя главного героя) Бэкон не мог не воспользоваться возможностью оживить пьесу подлинными датскими именами, которые он узнал (мог узнать) от Ратленда. Но самое интересное для нас, кто впервые выдвинул гипотезу об авторстве графа Ратленда.
Этим человеком был Карл Бляйбтрой, средний немецкий писатель-натуралист, впервые опубликовавший этот факт в конце XIX-го века. И сделал это как раз в то время, когда некоторые английские литературоведы стали называть автором «шекспировских» пьес именно Бэкона. Но Бляйбтрой был ярым антисемитом, и он знал о «Новой Атлантиде» - самом значительном труде Бэкона. А идеальное государство, описанное в этой книге, Бэкон назвал Домом Соломона. Хотя Бэкон использовал это имя в обозначении вымышленного им государства как имя библейского мудреца, но для антисемита понятно, что если Соломон был еврейским царем, это означает, что речь идет о еврейском государстве. Поэтому Бляйбтрой, также понявший по многим причинам, что Шекспир не писал этих пьес, пытался выяснить все, что могло бы исключить Бэкона из кандидатов на авторство этих пьес, и именно по этой причине он и застрял на именах Гильденстерна и Розенкранца и их знакомстве с графом Ратлендом. Разумеется, передача имен от Ратленда Бэкону - это тоже гипотеза, но гипотеза, основанная на строгих задокументированных фактах.
Может, это объяснение (эти заметки) получилось слишком резким, поэтому в заключение я хочу сказать, что этими своими рассуждениями я не только никого не хотел задеть, но и в любое время готов к основанной на неоспоримых фактах дискуссии как с теми, кто после приведенных рассуждений остается стратфордианцем, так и с Яковом Фрейдиным по поводу его теории, поскольку в течение всей моей деятельности главным для меня было не подтверждение чьей-то правоты или поиск чьей-то ошибки, а поиск истины. Хотя я никогда не забывал и не забываю приведенную в последней книге Штефана Цвайга Вчерашний мир максиму Зигмунда Фройда: «Es gibt ebenso wenig eine hundertprozentige Wahrheit wie hundertprozentigen Alkohol»[6].
[1] Виктор Зильберман: Между Шекспиром и Путиным. Две истории в духе Хоффманна. Liberty Publishing House, New York, 2023.
[3] Бритва Оккама, или принцип бережливости, - методический принцип, названный в честь английского монаха-философа Уильяма Оккама (1285-1349).
[4] Murphy W. M.: Thirty-six Plays in Search of an Author. Union College Symposium, 1964.
[5] Ключевой свидетель в суде, показания которого не повергаются сомнению.
[6] Стопроцентная истина встречается так же редко, как и стопроцентный алкоголь (нем., перевод мой)

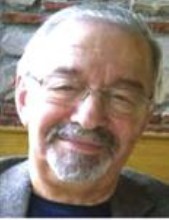


Комментарии
Игры о Шекспире
Уважаемый г-н Зильберман:
Ф. Бэкон, как известно, один из претендентов на «должность» Шекспира. У этой теории всегда было много сторонников — вспомните хотя бы Делию Бэкон (однофамилицу) в середине 19-го века, которая на Ф. Бэконе даже свихнулась и умерла в сумасшедшем доме. Но доказательств единоличного авторства Бэкона я не видел, да и вы не привели. С тем же успехом можно назвать Шекспиром и блистательного Уолтера Рэйли, последние слова которого в 1618 перед тем, как ему отрубили голову, были: «Лезвие топора — отличное лекарство. Оно излечивает от всех болезней» — чем не шекспировская фраза? Не исключаю, что он тоже вкладывал в шекспировскую копилку. Я всё же полагаю, что в «копилку» вкладывали несколько авторов. Иначе трудно понять как один и тот же драматург мог написать и великого «Гамлета», и совершенно блеклую пьесу «Генрих 5-й»?
Мне нравится теория, что поначалу было несколько авторов, но после примерно 1600 года основным стал граф Ратленд. Косвенных доводов в пользу Ратленда немало. Например: 1) учёба в Падуанском университете вместе с Розенкранцем и Гильдестерном; 2) студенческое прозвище Ратленда в Оксфорде и Кэмбридже было «Shake–speare»; 3) Шекспир ничего не создал именно в те годы (1601-1603), когда Ратленд был заключён в Тауэр; 4) после ареста и освобождения Ратленда Шекспир перестал писать комедии и стал писать трагедии; 5) пьеса «Гамлет» была существенна изменена после поездки Ратленда в Данию; 6) творчество Шекспира прекратилось летом 1612 года — именно тогда Ратленд умер; 7) Пьеса "Генрих 8" в 1612 осталась незаконгенной и её дописал Флетчер — это доказано точно.
Как бы то ни было, всем нам, кто ценит Шекспира, даже спустя четыре сотни лет в радость и забаву строить разные гипотезы о его творчестве. Недаром прекрасный шекспировед И.М. Гилилов назвал свою книгу «Игра об Уильяме Шекспире».
а что Вы скажете
о "Буре"?
это, скорее всего, последняя пьеса Шекспира, но ее вряд ли можно назвать трагедией...
а против авторства Бэкона говорят его собственные сочинения - человек он был умный, но мыслил не как художник.
А что предложат новые алгоритмы с использованием ИИ?
Недавно появилась информация о применении алгоритмов искусственного интеллекта для анализа Библии. Приводится данные, что на основе специально разработанных алгоритмов получены данные о нескольких авторах этого уникального Творения,авторов, живших в разные времена.
На основе сообщений в интернет сетях трудно делать даже преположительные оценки. Но вопрос о дополнительном пути исследования текстов Шекспира может возникнуть. Вреда выдержащим века произведениям точно не принесёт...
Для меня статья Виктора Зильбермана очень интересна - по содержанию и по эмоциональности.
Достоинства статьи позволяют с некоторым удивлением - походя - отнестись к дискусионному совету переиначить в русскоязычных источниках ряд известных имён и небрежного замечания в адрес Быкова.
Простите за любительские соображения и комментарии.
Каюсь
Прошу простить за неисправленные ошибки.
С уважением отношусь...
С уважением отношусь к экскурсам ученых- представителей науки, увенчанных степенями, в гуманитарные сферы. Я прослушала с вниманием доклад Якова Фрейдина на тему мифической фигуры великого английского Барда. Много изучено, продумано, проверено и с географической стороны темы. Жизнь Шекспира в Стрэдфорде-на-Эйвоне.Размышления о том, как человек, не получивший университетского образования в отличие от своих современников драматургов Бена Джонсона и Кристофера Марло, превзошел их. Действительно много загадок. И дело не в арифметике, не в приводимых цифрах словаря, которых у Шекспира больше, чем у кого-либо другого. Дело в гениальной драматургии, в фантастической игре ума... Среди загадок - как попадали рукописи Шекспира к редакторам и издателям? Об этом нет ни у уважаемого Якова Фрейдина, ни у уважаемого Виктора Зильбермана...Как могло случиться что Шекспир, сын перчаточника, учившийся весьма немного, не посетивший других стран, создает картину мира в своих пьесах.... Как получилось,что его дочь едва умела расписываться? И даже главный вопрос, и все предполагаемые истинные авторы Граф Саутгемптон, Граф Рэтленд, Елизавета Сидни, философ Бэкон, и вышеупоминаемые драматурги так и остаются гипотезами. Неизвестно точно кто был адресатом сонетов, посвященных Смуглой леди... Как получилось, что во время при Елизавете, когда в моде были оды, на смерть Шекспира не было написано ни одной? Думаю, оба вступившие в контакт по "шекспировскому вопросу" джентльмена получили большое удовольствие, погрузившись в море материалов.Занимались ли они чтением пьес Шекспира на том самом древнем английском языке, на котором он писал? Хотелось бы узнать истину. Она обнаруживается при изучении связи творчества и биографии. Но это пока не удается доказать никому. Я в восхищении от книги И. Гилилова "Игра об Уильяме Шекспире". Но все западное шекспироведение ГИПОТЕЗЫ О НАПИСАНИИ ВЕЛИКИХ ПЬЕС другими людьми не признает. Говорю как человек с профессией театровед, и с образованием театроведческим двойным, российским и американским. Не поняла я почему два специалиста в точных науках, занявшись гуманитарными проблемами, не назвали выдающихся исследователей творчества Шекспира, таких каК Аникст в прошлом, как Бартошевич в настоящем.НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ ОТСТАВИТЬ В СТОРОНУ таких выдающихся историков литературы. Что касается точки зрения о том кто был Шекспир, поиски устремляются в противоположные направления, и ответ может быть так и останется неизвестным.
Виктир Зильберман, о Шекспире
На родине В.Шекспира уже несколько лет назад было принято решение рассматривать к расследованию о жизни и творчестве великого драматурга исключительно реальные документы. На сегодняшний день ни одна гипотеза не подтвердилась, а количество подлинных документов растет. Kому интересно читать подлинные документы,а не мифы,о жизни великого драматурга и поэта, могут погрузиться в море документов, которые доступны здесь. https://shakespearedocumented.folger.edu/node/652 https://shakespearedocumented.folger.edu/resource
Виктор Зильберман, о Шекспире
Из документа об авторстве пьес:Who wrote the plays?
The “authorship question”—did William Shakespeare from Stratford-upon-Avon really write all those plays?—has fascinated people since the nineteenth century.
The documents in this exhibition—title pages with his name on them, administrative records, and numerous print and manuscript references to him by people who knew him, or knew of him, in his lifetime—leave no doubt that the man from Stratford was the author of the plays. В.Шекспир является автором своих пьес. И хотя 80! кандидатов рассматривались как потенциальные соавторы, гипотеза не подтвердилась за отсутствием доказательств.
Виктор Зилберман, о Шекспире
Памяти великого драматурга В.Шекспира выдающийся драматург Бен Джонсон посвятил элегию "To the Memory of My Beloved Master William Shakespeare, and What He Hath Left Us".https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/memory-my... https://www.youtube.com/watch?v=UlambyRRIv8
Обманка про Шекспира
Уважаемая Людмила,
Как вы думаете, что вам ответят в станице Вешенская, если вы им скажете, что «Тихий Дон» Шолохов не написал? Уверен, что после такого вопроса вам повезет если вы сможете убраться оттуда подобру-поздорову. То же и в Стратфорде-на-Эйвоне. Шекспир для тамошней публики — это кормушка и образ жизни. Они голову оторвут каждому, кто станет говорить, что Вилли Шакспер — подставное лицо. Все их «новые» публикации — старые биографические данные Шакспера, как их вот уже 300 лет интерпретируют верующие стратфордианцы.
Вы приводите текст Бена Джонсона с хвалой Шекспиру. Однако, эта цитата — обманка с датой 1616, когда умер Шакспер. На самом деле этот стих Джонсона есть предисловие к Первому Фолио, который был написан в 1623 году, то есть через 7 лет. В лекции Фрейдина об этом подробно рассказано и даже дана расшифровка имени того, кого Джонсон зашифровал в стихе под именем Шекспира. Заметьте, что в те времена когда умирал какой-то известный поэт или драматург, ему посвящали множественные эпитафии и, как правило, были торжественные похороны в Вестминстерском Аббатстве. А вот на смерть Шакспира никто ни полстрочки не написал, его смерть вообще никто не заметил и похоронили его в Стратфорде. Так что, стратфордианцы это те, кому выгодно Шакспера принимать за Шекспира по чисто меркантильным или карьерным соображениям.
Виктор Зильберман, о Шекспире
Уважаемый Дж.Оверт, частично Вы правы, но в ссылке, которую я дала, не только источники из Стратфорда, но и библиотека Оксфорда и архивы. Есть две элегии на смерть Шекспира, вторая Джона Милтона. Как известно, Бен Джонсон был противником Шекспира потому его Элегия попала под прицел специалистов. Документами на сегодняшний день занимаются две группы и они обе пришли к заключению, что без документов все гипотезы остаются мифами. Написано множество страниц без доказательст, прочитано множество лекций. В ссылке Вы найдете все наличные документы в разных научных источниках.https://shakespearedocumented.folger.edu/partners
Добавить комментарий