Ананас был нецензурным словом после одного манифеста ок. 1900 г., где абзац начинался: «А на нас Господь возложил…»
Михаил Гаспаров. «Записки и выписки»
Так что написать «Ананасы в шампанском» было политическим жестом, смелым поступком.
Псевдонимы русских поэтов причудливы и прихотливы, будто казни египетские. Борис Садовский меняет одну букву и становится Садовской, Анна Горенко придумывает себе несуществующую татарскую прабабку и происхождение от самого хана Ахмата, Фёдор Тетерников берёт фамилию прочно забытого писателя графа Соллогуба и избавляется от одной л и графского титула. Игорь Лотарёв пошёл дальше всех: сначала он смущал издателей чудовищными выдумками вроде Граф Евграф Д'Аксанграф или Князь Олег Сойволский, позднее вообще отказался от фамилии, стал Игорь-Северянин. Это потом издатели по привычке вернулись к имени-фамилии и стали печатать Игорь Северянин.
Сологуб, который не любил людей вообще, а поэтов в частности, сделал исключение для поэта Северянина. Что было совершенно чуждо поэзии Сологуба, так это любая вычурность, потому он и был так впечатлён стихами Северянина.
Мережковский утверждал: «Что по́шло, то пошло́». Но даже он не предполагал крайний случай Северянина, когда пошлость стала самим материалом, самим предметом поэзии. И поэзии это не повредило. Дух, как известно, дышит, где хочет.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе! –
громогласно возмущался Маяковский, сам отошедший от революционной деятельности ради поэзии, но любивший риторически спрашивать с других.
А Северянин никогда не был сереньким. И для красоты-пестроты ему не нужна была жёлтая кофта. И громкий голос Северянину был не нужен, его и так слушали.
Вонзите штопор в упругость пробки, –
И взоры женщин не будут робки!..
Какая-то в этих строчках изумительная вещественность. Как будто слышится звук откупориваемого вина. После Пушкина и Державина русская поэзия стала аскетичной, даже бестелесной, нематериальной. Вино кометы, не допитое Пушкиным, лежало в погребах и ждало, что придёт расторопный малый со штопором. Лимбургский пирог ожил, а дальше по тексту был «молодой ананас».
Но есть и разница: у Пушкина вся вещественность была du comme il faut, принадлежащая поэту по праву рождения, у северянинского же владения был непреходящий оттенок, отдушка vulgar, как будто это собственность нувориша или даже лакея, стянувшего с барского стола.
Не было во всей России человека, который разбирался бы в поэзии хуже Льва Толстого[1]. Сила Пушкина, по моему мнению, главным образом в его прозе. Его поэмы – дребедень и ничего не стоят.
Само стихосложение он сравнивал с поведением человеком, который идёт за плугом, но после каждого шага делает приседание. Много ли так напашешь?
Так что, когда какой-то журналист показал Льву Николаевичу стихи Северянина, негодованию яснополянского мудреца не было предела. «Чем занимаются, чем занимаются… И это – литература? Вокруг – виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них – упругость пробки…» Так и вижу, как гневно трясётся прославленная борода.
Слава Северянина была обеспечена. И с дурным намерением можно послужить благому делу. Не один Северянин считал себя гением, но всем казалось как-то неловко честно заявлять об этом с эстрады.
Не только эгофутуристы понимали, что в жизни, а тем более в поэзии, каждый сам за себя, но путалась в ногах суровая этическая традиция русской литературы.
Страшно было выйти на суд людской чёрненькими и попросить о любви. Чёрными – это да! Романтики выходили толпами, выделывались да выкаблучивались на радость публики. А вот чёрненькими, себялюбивыми, стремящимися к комфорту – нет, это недостойно и смешно. Северянин даже не понял, чего тут можно было бояться или стесняться.
С бесстрашием и безразличием деклассированного элемента встретил Северянин эпоху марксистской литературы. Буржуазность могли бы простить, но преданную любовь к буржуазности…
Никогда ни о чем не хочу говорить…
О поверь! Я устал, я совсем изнемог…
Был года палачом, – палачу не парить…
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог…
Вот и маемся внутри этой клетки – квадрата квадратов, маемся, точно звери, не можем воспарить. Задал Северянин задачу.
А кто из нас не был в эти года палачом?
Я сам себе боюсь признаться,
Что я живу в такой стране,
Где четверть века центрит Надсон,
А я и Мирра – в стороне.
Северянин как истинный поэт всё делал не вовремя. В 1912 году Надсон уже не центрил. Где-нибудь в глухой русской провинции его, может быть, ещё читали. В Петербурге же тягаться с Надсоном о славе всё равно, что с Тредиаковским.
Умиравшая в глубочайшей депрессии Мирра Лохвицкая была бы очень удивлена, если бы узнала, что ей предстоит стать иконой эгофутуризма, течения бодрого и жизнеутверждающего.
Только по недоразумению «проклятые поэты» считаются французским явлением. Отечественная традиция чрезвычайно богата.
Константин Фофанов благословил Северянина, но его благословение чем отличалось от проклятия? Допившийся до полного разложения личности, так что оставались только поэзия и страх, Фофанов кричал, умирая: «Бессмертия мне! Бессмертия!» Северянин шёл на эстраду с той же целью.
Сын Фофанова, Константин Олимпов, стал эгофутуристом, но ему достался только алкогольный талант отца.
Нельзя сказать, что, попав на русскую почву, итальянский футуризм дал причудливые всходы. Кажется, что никакого, даже дальнего родства тут нет. Одно название. Ну так грош цена таким совпадениям: кто из поэтов не задумывается о будущем? Этим, что ли, обосновать преемственность? Неудивительно, что приехавший в Россию отец футуризма Маринетти был встречен недоумением, чуть ли не улюлюканьем.
Первым русским футуристом был Северянин, чья устремлённость в будущее напоминала ожидание в сочельник, когда вот-вот откроется дверь в залу, где стоит ёлка, и будет всем вдоволь сластей и мишуры.
Праславянское будетлянство Хлебникова должно было ввергнуть Маринетти в жесточайшее уныние, если бы он хоть одно хлебниковское слово понял. Скифское, полутораглазое язычество Бурлюка тоже не походило на гимн какой-то скоростной машинерии.
Побыв год главой эгофутуристов, Северянин решил, что даже само название требует от него одиночества и самолюбования. Тем более что его сила очевидно не мужала от числа.
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
По аллее олуненной Вы проходите морево…
Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена…
К сожалению, русская поэзия пока не воспользовалась тем многообразием стихотворных форм, которое оставил ей Северянин. Выморочное наследство. Но ведь ничего окончательно не потеряно. Встряхнись, поэт, и напиши великолепный, потрясающий кэнзели. Северянин возводил свой род к Карамзину.
И вовсе жребий мой не горек!..
Я верю, доблестный мой дед,
Что я – в поэзии историк,
Как ты – в истории поэт!
Но истории его были иногда в совершенно ноздрёвском духе. Родство Северянина с Фетом было менее вымышленным.
Русская литература после Пушкина забыла, что в поэзии есть элемент игры. Для того чтобы снова начать играть, поэту приходилось надевать нелепую маску Козьмы Пруткова и маскировать живость воображения под сатиру. Но разве это настоящая игра, когда сам игрок не верит в своё священное право выигрывать чего только душа ни пожелает и проигрываться в прах, влезая в неоплатные долги?
Купчихи, бросающие на сцену драгоценные ожерелья, тоже были частью большой игры.
Лунные слёзы лёгких льнущих ко льну сомнамбул.
Ласковая лилейность лилий, влюблённых в плен
Липких зеленых листьев. В волнах полёты камбал,
Плоских, уклонно-телых. И вдалеке – Мадлэн.
Кому ещё в русской литературе была доступна такая очаровательная звукопись? Может быть, только Бальмонту. Может быть, эта плавность связана с тем, что Северянин не читал, а почти что пел свои стихи с эстрады. Приятный баритон поэта.
Чьи-то неологизмы входят в повседневный язык: лётчик, стушеваться. Все северянинские неологизмы, кроме одного, остались в его поэзии. Но это такое развитие мускулатуры поэтического языка и русского языка в общем, которое даром не проходит, которое благотворно.
Обидно, когда из всего изысканного многообразия языком запоминается единственный неологизм – бездарь.
Когда Северянина избрали королём поэтов, Маяковский мало того, что устроил скандал там же, в Политехническом музее, но и ещё усиленно распространял свою версию событий: дескать, первым призом был венок, а вот второй приз – денежный, ну и продвинули дурачка Северянина, чтобы ему достались ветки, а Маяковскому – монеты.
Маяковский никому так мучительно не завидовал, как Северянину. Юношеская психологическая травма после гастролей по югу России.
Тогда, ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!
В берлинском ресторане «Медведь» Алексей Толстой, увидев Северянина, возопил: «Ты обещал повести нас на Берлин и вот привёл!» Хамская шутка быстро разошлась по всей эмиграции. Пошлость патриотических стихов Северянина уже не искупалась никаким талантом.
Редактор рижской газеты «Сегодня» рассказывал Одоевцевой, что платит Северянину небольшую ежемесячную пенсию с тем условием, чтобы тот не присылал в редакцию своих стихов. Так покупается хлеб изгнанья.
В те времена, когда роились грёзы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Пошляки говорят, что поэтам полезны катастрофы. Вот уж пошлость, которая пошла дальше ехать некуда. Революция и эмиграция ничего не дали Северянину, чувство и чувствительность были у него и до катастрофы, но лёгкость пера, лёгкость языка, ощущение игры – всё это безвозвратно ушло. Очарованье отцвело.
Посерьёзневший, погрузневший Северянин продолжил писать, уже не веря в свою лёгкость, но и не умея от неё отказаться. Балерина на костылях, ещё сохраняющая натренированную плавность движения. Жалкое зрелище – шкандыбала бы как все.
Лучшие эмигрантские стихи Северянина – это те, которые могли написать и другие поэты. Общие места русской ностальгии.
Если придётся будущему геральдику создавать герб рода Северяниных, то не знаю, что он нарисует, какой знак на каком поле, но девиз очевиден: «Здесь кого-то побили!» При всём блеске успеха Северянин всегда оставался прекрасным неудачником.
Сына своего Северянин назвал Вакхом.
Кто движется в лунном сиянье чрез поле
Извечным движеньем планет?
Владычица Эстии, фея Eiole.
По-русски eiole есть: нет.
Эстония не смогла стать для Северянина новой родиной, но и только чужбиной не осталась.
Для того чтобы поквитаться с врагами, отблагодарить друзей, раздать всем сестрам по серьгам, Северянин написал цикл сонетов «Медальоны». Уходя из жизни и литературы, он пускал парфянские стрелы. Похвалы оказались тяжеловесными, а враждебные выпады хоть и совершались с чувством, но били мимо цели. Сонеты получались у Северянина хуже, чем формы собственного изобретения.
На выход мемуаров Георгия Иванова, где в красках была описана эгофутуристическая юность автора, Северянин откликнулся памфлетом «Шепелявая тень». Похоже, он не понял, что Иванов писал о нём с любовью и даже некоторым уважением.
Северянин был превосходной мишенью для насмешек. Сам постарался. Причём настолько постарался, что есть в этом какая-то явная, достаточно злая насмешка над насмехающимися.
У Северянина, кроме поэтического дара, не было ничего. Ни ума, ни вкуса, ни гражданской позиции, ни даже красивой биографии. Вот уж кто поэт par excellence. Вот уж кому поэзия была единственно на потребу.
Не будь Северянина, русская поэзия была бы другой, он что-то неважное смог изменить в самом её составе. А это и более талантливым поэтам не всегда удавалось. Херувим занёс несколько райских песен, и никак нам не отделаться от их звучания.
Птичка божия. Как ни бросала судьба, а чирикал, чирикал перепел не переставая, чирикал, когда все вокруг только и делали, что кроились миру в черепе. Над этим чириканьем посмеивались, но это было верным звуком камертона нормальности.
Писать, когда твои стихи безнадёжно устарели, когда их никто не печатает, когда они никому не нужны, – это верность долгу, это служение, это подвиг. И это несколько нелепо и несколько смешно.
[1] Посмотрите на поразительно точные ремарки Толстого на стихи Тютчева, о котором он сказал: «Без него нельзя жить». (прим. ред.)


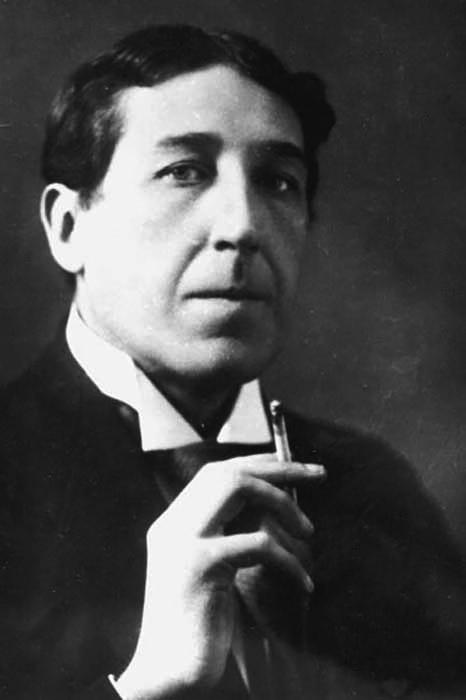

Комментарии
Удивительные псевдооткрытия
Причем одно за другим. Тут тебе и что Ахматова выдумала себе татарскую прабабку только для того, чтобы придумать себе звучный псевдоним (к сведению нашего сверх знатока, не только у Ахматовой, но у её первого мужа Гумилева были татарские предки.) Следующий полив, что Федор Сологуб терпеть не мог людей и у него не было никогда друзей - единственное исключение: Игорь Северянин, хотя хорошо известно, что ФКС горячо любил свою жену, с которой прожил 19 лет, пока она не покончила жизнь самоубийством, а сам поэт оставался безутешным до конца своих дней. Кроме того у него было множество друзей или во всяком случае близких знаком в поэтических кругах, где он был хорошо известен. Дальше больше, оказывается Лев Толстой ничего не понимал в Поэзии, поскольку уже в очень преклонном возрасте не сумел оценить весьма эпатажное стихотворение Северянина. Ну, а у самого поэта оказывается "...не было ничего. Ни ума, ни вкуса, ни гражданской позиции, ни даже красивой биографии." И Смех, и грех! Дай Б-г нашему автору, хотя бы малую крупицу тех достоинств (в том числе необыкновенно оригинального ума и нетривиального вкуса), которыми обладал этот совершенно замечательный и уникальный Поэт!
Добавить комментарий