Предлагаем вашему вниманию пятую, заключительную публикацию из цикла «То-то было весело при тоталитаризме. Из жизни советских писателей». Первый выпуск был опубликован «Чайкой» в 2017 году, последующие - в ноябре и декабре 2020 года и в апреле 2021 года. Редакция напоминает читателю, что жанр литературного памфлета предполагает некоторые содержательные и языковые вольности.
Драматург Исидор Шток сочинил забавную пословицу: «Как от Штока до Вайнштока, так от Зака до Бальзака». Это он, надо думать, литературные заслуги и писательскую славу соизмерял. Ибо, рассуждая географически, не свести концов. Вайншток со Штоком оба два в «Московском Писателе» обитали, драматург Авенир Зак – рядышком, в соседнем писательском ЖСК. Что ж до Оноре де Бальзака - тот, знамо дело, книжек французских, высокохудожественных целую прорву насочинял. Так что тоже, конечно, заслужил. Только вот - несерьёзные они люди, французишки. Культурная, вроде, нация, а до важнейшего предмета, до писательских кооперативов, – не допёрли!
Едва угнездившись, пустилась Советская власть паспорта гражданам перелицовывать. Чтоб, навек выкорчевав мракобесное «вероисповедание», внедрить заместо него антиклерикальную «национальность». Исидора Штока, как и всех его соплеменников из «иудеев», следовало тогда в «евреи» произвести – да, знать, не судьба! Теперь уж не угадаешь, о чём размечталась та давно почившая паспортистка: об отце-лишенце, о бедовом своем ухажёре, либо о заветной картохе, обещанной по карточкам. Только отвлеклась девушка от служебных обязанностей - и записала Штока «индеем».
Трудно нынче вообразить, но в ту наивную эпоху Исидор даже бровью не повёл, так многие годы и проходил с эдакой стрёмной национальностью в краснокожей паспортине. Лишь перед самой войной призвали его, наконец, к ответу: что это за нация такая неслыханная, не индеец даже, а индей?
- Может, вас в Америку переправить? В резервацию, так сказать, на племя? Или прикажете автономный округ персональный учредить?
- Перепишите на еврея, - молил перепуганный Исидор.
Нельзя, неправомочны. Официальный ведь документ, записано же чёрным по белому: индей! После долгих раздумий и совещаний пошли всё-таки на компромисс: ничего не зачёркивая, приписали в конце. Всем сомневавшимся Шток охотно предъявлял свой молоткастый-серпастый, где в пятой графе значилось: «индейский еврей».
Оправившись от стресса и воспрянув духом, Шток сыскал обновлённому паспорту достойное применение: расписался законным браком. В жёны взял черноокую красавицу Александру Кононову, актрису театра «Ромэн», цыганку. Нацию дочки своей определял как «цыгейка».
Сосед их по дому Марик Мукумов трактовал собственную породу сходным образом. Сознавался: по национальности он «таджид». Это, если вдуматься, отгадаешь, каких кровей родители-то его были. Отгадаешь, которую, значит, из национальных советских литератур Мукумов-старший на недосягаемую высоту подымал.
Лев Лосев, поэт интеллектуальный и блестящий, горазд был проехаться по классикам «деревенской прозы»:
Однажды Ваське Белову привиделся Васька Шукшин.
Покойник стоял пред живым, проглотивши аршин,
и что-то шуршал. Только где разберешь — то ли голос,
то ль ветер шумит между ржавых комбайнов и лопнувших шин.
Оба Васятки были, по свидетельствам современников, зоологическими антисемитами. Фридрих Горенштейн о Шукшине: «Пил и антисемитствовал Вася на земле, в небесах и на море. Был случай в Сочи на круизном теплоходе, был случай в самолёте «Аэрофлота»: Вася весело пьяно хохотал, обещая летевшему с ними "очкарику", "мосфильмовскому жидку"- режиссёру, помилование при погроме».
Поневоле вспомнишь Наума Сагаловского:
Не пойдём природы супротив мы,
просто замечаем всякий раз:
до чего же гении противны -
тот пропойца, этот - “пидарас”.
Их талант попробуй отмени ты,
и предстанут нам во всей красе
бабники, жлобы, антисемиты,
но не все, конечно, нет, не все.
Также и другие известные стихотворцы не дураки были порассуждать на подобные щекотливые темы. Взять хотя бы самого Козьму Пруткова:
Кто не брезгует солдатской задницей,
Тому и фланговый служит племянницей.
Хорошо, писалось это давненько, в 19-м, политически отнюдь не корректном веке. В наши дни пришлось бы безрассудному пииту ответить за глумливую гомофобию вкупе с отмазкой сексуального домогательства и продолжить своё стихоплётство на гауптвахте, а то и кое-где подальше.
Но вернёмся к Василию Макаровичу Шукшину: ушедши, как говорится, в мир иной, он не просто в гробу перевернулся – крутился со страшной нечеловеческой скоростью, наподобие пропеллера Аэрофлотского авиалайнера. Все те долгие годы, покуда дочек его поднимал да воспитывал стопроцентный жидок (хоть и покрестившийся), кинооператор Миша Агранович.
Алексей Николаевич Арбузов обессмертил своё имя, сотворив знаменитую драму «Таня». Но ничто не вечно под луной, как сказал другой, ещё более великий драматург. Три четверти века спустя бренную арбузовскую славу затмила новая сенсация: «Таня-Таня», пьеса с картинками. Даже одно только названьице проясняет: автор, Мухина Оля, двум Арбузовым фору даст! Вчитаешься – на славу удалось произведение, залихватский переплёт любовных перипетИй и алкогольных перепИтий. К сему добавьте старый фруктовый сад да с дядей Ваней в придачу. Это ж она не токмо что на Арбузова - на какую величину посягнула!
В другом в чём насущном - также не приотстанет новомодный драматург Ольга Мухина от корифея советской драматургии Алексея Арбузова (который очень любил евреев, но скрывал). Случится ей, скажем, потомка Авраамова дуриком повстречать - вполне терпимо относится!
Прозаик, а в прошлом - военный лётчик Иван Спиридонович Рахилло, здоровущий, седовласый и краснолицый, менее всего походил на семита. Невзирая, однако же, ни на «Ивана» со «Спиридоном», ни на посконное славянское обличье, повадились дружки-деревенщики, с коими любил он поддавать в ресторане ЦДЛ, измываться над его редкой фамилией.
- У вас, у иудеев, - подначивали приятели, - половина фамилий от имён от женских пошла: Блюмкин, Ривкин, Фрумкин, Симкин. Вот и бабку твою вне всяких сомнений Рахилью прозывали!
Гнусные эти инсинуации сносил Рахилло с трудом. И однажды, - будучи, понятно, в подпитии, - взорвался: публично доказал полную непричастность к еврейской породе путём предъявления факта своей категорической необрезанности.
Доброхоты, само собою, донесли, и возмездие не заставило себя ждать: за развратное, хулиганское поведение, несовместимое с высоким званием коммуниста и советского писателя, партийный комитет взялся исключать Рахилло из коммунистической партии (большевиков).
Перед самым собранием одолеваемые раскаяньем собутыльники стали уговаривать его пойти на попятный.
- Ты им, Ваня, скажи: то, мол, была сосиска! Хапнул с тарелки сосиску, сунул в штаны и достал. Тоже, брат, шуточка не из лучших, - но всё ж таки не разврат! Простым отделаешься, без занесения!
Подавленный безрадостной перспективой отлучения от ума, чести и совести ихней эпохи, Рахилло согласно кивал.
На партсобрании в несвойственной ему покаянной манере мрачный Рахилло выложил сперва спасительную версию о сосиске. Но как принялись все по кругу распинать его за неуместную ту сосиску, воспитывать да стыдить, словно щенка, описавшего ковёр, снова взбеленился. Хоть и был на сей раз до отвращения трезв.
- Да пошли вы знаете куда! Так и запишите в свой поганый протокол: @@й я им показал, натуральный @@й! - Громыхнул дверью и вышел вон.
Поразительно, но после столь отъявленной эскапады был Иван Рахилло оставлен в членах! Всего-то-навсего закатили охальнику строгача с занесением. Уважали, знать, мужика однопартийцы за открытость души и цельность натуры.
Летом 70-го разразилась в Крыму холера. Средь прочих мер профилактики развесили по территории Дома Творчества Писателей в Коктебеле умывальники, полные хлорки. Возле каждого рукомойника прикреплён был плакатик-агитка с изображением довольной, ухмыляющейся рожи и таким вот виршем:
Хочешь быть весел,
Здоров, как я, –
Дезинфицируй руки
После мытья!
Не устрашённые зловредной эпидемией, остряки засучили рукава своих маек и на каждом воззвании под стишком приписали: «Арон Вергелис, перевод Якова Козловского». Следующим утром Козловский (переводчик с аварского, балкарского и пр.) на пару с Вергелисом (поэтом, пишущим на идиш) бегали, высунув язык, срывали прокламации. Не возжелали внезапной славы.
Включили Ивана Рахилло в группу писателей, принимавшую японских коллег. Завершалось, как водится, банкетом. В вышеупомянутом ресторане ЦДЛ ломился стол от казённых яств и напитков. Оба переводчика восседали центрально, при руководителях делегаций, Иван же Спиридоныч оттеснён был на дальний конец и зажат посередь целого взвода косоглазых. Покалякать не с кем, зато уж - никакой тебе конкуренции по ликёро-водочной части! Каждую рюмку словоохотливый Рахилло сопровождал всё той же коротенькой присказкой.
Приходит время заключительных тостов, дают слово и соседу Рахилло. Учтиво поблагодарив за хлеб-соль, высоко оценив русскую кухню, русскую баню и русскую культуру, японец гордо возглашает: он тоже теперь знает русский! Пусть одну только фразу, застольную здравицу, значение которой ему неведомо, но запомнит он её на всю жизнь! И, вознеся бокал, выговаривает торжественно, по слогам:
- П@з-да-нём хо-род-нень-ко-во!
Георгий Георгиевич Штайн пьесами промышлял, а помоложе когда – критическими статейками, завлитом у Николая Охлопкова. Несмотря на подозрительную фамилию, происходил Штайн из эстонцев. В пору пресловутого обмена паспортов «лютеранина» поменяли ему на «немца»: не один ли хрен, немцы тоже многие - лютеране. И тоже, как и Шток, не придал Жора своей новой нацпринадлежности ни малейшего значения. Так и не придавал вплоть до самой войны, покуда его как немца не затеяли выселять в Казахстан. Лишь тогда засуетился старина Штайн, надыбал кой-какие ксивы и рванул прямиком в милицию. Где усажен был у дверей кабинета ждать.
Вот, рассуждают, не имелось-де у нас до войны антисемитизма, – только выплыл начальник отделения в коридор, осклабясь до ушей:
- Значицца, решенье по твоему вопросу принято следующее: немца меняем только на еврея!
Осмотрительный Штайн пораскинул мозгами – и отказался.
Не только за хлеб насущный колготились советские писатели, не об одной лишь радели скороспелой популярности. Весьма волновала их слава посмертная. В деле собственного увековечивания, коли звания с наградами были уже получены, собрание сочинений - издано, а некролог в «Литературной Газете» - обеспечен, надлежало позаботиться о стратегическом размещении своих грядущих останков. Мало кому светило Новодевичье, но можно было, похлопотав, застолбить местечко в другом фешенебельном некрополе для избранных: Переделкинском. Чем ближе к могиле Бориса Пастернака, тем престижней.
Даже и на рядовом погосте величавость надгробья свидетельствовала о непреходящей значимости усопшего. На кладбище в Старой Рузе Валерий Тур, член трёх творческих союзов, потрясён был монументальной конструкцией одной из писательских гробниц:
- Назвать такое сооружение “могилой Бориса БАлтера“ – кощунство. Это – “пирамида БалтЕра! “
Немчура Штайн и в худые времена не спешил расставаться с замашками сибарита. Что уж говорить про тучные годы, когда привалило ему до чёртиков за перевод «Маринэ» Мариам Бараташвили да за проистёкший из пьесы фильм «Стрекоза». Изнежился Жора и обленился: пешкодралом вовсе себя не утруждал, перемещался исключительно на своей двуцветной светло-тёмно-зелёной «Волге». Неизменно в щёгольской шляпе и переливчатом шёлковом шарфике. Источающий тонкие ароматы армянских коньяков и дорогого, душистого табака…
Это оно всё к вечеру, ибо поутру страдал эпикуреец Штайн с похмелюги. Голова трещала так, что о работе над пьесой, о всяких там репликах с ремарками, и помыслить было западло. Покамест Штайн опохмелялся да отлёживался, соавтор его, педантичный Андрей Кузнецов, раздосадованный бесплодным ожиданием, огрызался в поэтической форме:
О мой Штайн, отрывающий день у работы!
Не у себя ль самого украдаешь егО ты?
Сколько, подумай, осталось рабочих нам дней?...
Это зачин «Оды Жоре Штайну, который 23 октября 1962 года опоздал на встречу с соавтором на 4 часа 17 минут».
Сын Владимира Вайнштока шестнадцатилетний Олег совершил акт гражданского мужества: при получении паспорта, имея возможность свободного выбора, добровольно записался евреем.
- Что за п@ц! – укоряли его приятели, – взял бы татарина и жил припеваючи: для тебя, нацмена, все двери нараспашку!
- Довольно глупо бы получилось: Вайншток – татарин.
- Мда… ну тогда и фамилию поменял бы на материнскую. Салахетдинов - татарин, не подкопаешься.
- Хочу быть евреем, - скромно потупив очи, изрекал Олежка.
Стезю он выбрал киношную и здраво рассудил: даже губительный эффект пятого пункта будет обезврежен знатной фамилией, славной в кинематографе и не только!
Рухнула ригидная Советская супердержава, опростились нравы. Экстравагантным эклектизмом давно уже никого не удивишь. Догадайтесь, к примеру, что за яркая личность скрывается под такой вот разношёрстностью.
- имя: старинное православное;
- отчество: иудейское;
- фамилия: мусульманская;
- всё вместе: записной российский прозаик;
- место службы: ведущий еврейский журнал, публикующий, впрочем, отдельные антисемитские материалы.
Разгадка (попросить издателя, чтоб напечатал вниз головой): Афанасий Исаакович Мамедов, журнал «Лехаим», статья об употреблении евреями христианской крови (Г. Зеленина «Кровь за кровь, миф за миф: наветы и ответы», три номера за 2008 и 2009 годы).
Приходит Александру Петровичу Штейну письмо из заштатной богадельни. «Дорогой Сашенька, - пишет неизвестная старуха. – Как я рада, что ты у нас теперь знаменитый писатель, драматург! А помнишь ли Биргитту, бабушки твоей Вильмы младшую сестру? Забыл, шалунишка, как купала я тебя в корыте?» За эмоциональным вступлением следовала банальная просьба о вспомоществовании. В качестве доказательства к посланию прилагалась выцветшая карточка: пухлый годовалый малыш, почти голенький, в одних трусиках и при шляпе, беззаветно улыбается фотографу.
Дитё было незнакомое, да и звали Штейновых бабок совсем иначе. Собрались уж было выкидывать эпистолу, как вдруг сына Александра Петровича, будущего режиссёра, осенило.
- Шляпа! – воскликнул смекалистый Петя, – уже в младенчестве он носил шляпу! Это может быть только Жорик Штайн!
Так оно, представьте, и оказалось, напутала бабулька. Переправили депешу Георгию Георгиевичу Штайну, а чем уж там кончилось у них с материальной помощью, – история умалчивает.
В Доме Творчества Писателей «Малеевка» с кинозалом соседствовала бильярдная. Сотворив за день очередную порцию нетленки, вечерами сражались, не щадя живота своего (расплющивая, сиречь, пузо о мраморную твердь стола), матёрые бильярдисты: Михаил Танич, Григорий Горин, Валерий Тур, член трёх творческих союзов. И примкнувший к ним Юлик Гусман (писатель был никакой, зато известный остряк-КВНщик, в будущем – директор Дома Кино, бесстрашный борец с гомофобией). Дым, азарт, хохмы, - только нешто упомнишь? Одна вот всплыла: «норвежский Хердал» - так Гусман дразнил Валю Тура в честь аргонавта Тура Хейердала.
Сергей Островой тоже на бильярде играл недурно (что не мешало ему боготворить жену его Надю, арфистку). Нанесёт удар - и извивается всем телом вослед убегающему шару, направляет к цели. Если ж не ложился в лузу шар, Островой картинно отставлял кий и с печальной величавостью констатировал:
- Играю всё хуже. Пишу всё лучше.
Даже и в бильярдной стоял у Сергея Острового (который боготворил жену свою Надю, арфистку) пылкий эрос во главе угла. Ввечеру пожалует поэт к зелёному столу. Извлечёт длинный свой, тонкий, наборный кий из чехла, мелком его натирает – и с глубоким удовлетворением возвестит:
- Написал два стихотворения про любовь. Закрыл тему!
Лет пять, что ль, назад сошлись в огороженном, тщательно охраняемом дворе ЖСК «Московский Писатель» поседелые писательские потомки, предаются элегическим думам.
- Утекло золотое времечко, не осталось писателей в нашем доме…
- Так уж прямо и не осталось! Отдельные экземплярчики пока ещё встречаются!
- И кто ж самый у нас знаменитый теперь? Ужель Грунька? (Дарья, то бишь, Донцова).
- Скорей уж тогда Гулька (Владимир Шаров).
Сын переводчика Владимира Бугаевского внимает молча, хмурится неодобрительно. Любимец двух Патриархов, Александр Бугаевский большими делами заправляет в Московской епархии – даром что мордой лица не тянет на православного. Выставив бороду и брюхо, вступает (веско, значительно):
- Мелочёвка все ваши писаки! Лет через тридцать никто их писулек даже и не вспомнит. Единственный крупный писатель в доме – это я!
Прочие потомки (изумлённо):
- И ты, Брут, - бумагу марать? Ты ж, Сашка, земельными наделами вроде ворочал!
Бугаевский (дьявольски усмехаясь в усы, с полупоклоном):
- Да будет известно дамам и господам, что ваш покорный слуга - председатель общества «Скиния», признанный борец за церковные ценности и видный писатель-агиограф!
- Какой-какой граф?
Александр Владимирович Бугаевский (важно, величественно):
- На меня трудится целая группа сотрудников, материалы собирает: по монастырям, по архивам. А я творчески осмысливаю и издаю исправленные Жития Святых. В кожаном переплёте, с золотым обрезом! Вот мои сочинения - это на века!
Свалив за бугор, Юрий Израилевич Альперович превратился в Юрия Ильича Дружникова. Метаморфоза, супротивная той, какую обычно претерпевают имена советских евреев - отъезжантов. А собака-то – она вот где зарыта. Первую жену Альперовича Галю вполне устраивал муж – детский писатель средней руки. Но является супруга номер два, Валерия, «жена-вдохновительница» (высшая категория писательских жён по классификации, выполненной самим Ю.И.). И начинает из Юры гения лепить, великого русского писателя, чья слава не померкнет до конца времён. А слыханное ли дело, чтоб классик русской литературы – Альперович-Израилевич?
Ближе к войне пофартило театральному критику Ефиму Холодову аж на трёх фронтах: зачислился сотрудником в журнал «Театр», женился на пухленькой хохотушке Раечке да вдобавок сподобился ещё свою прежнюю, неудобную фамилию поменять на другую, куда более гордую и благозвучную. Последние два события смешались во времени и в бюрократическом пространстве. Породив поучительный документ, коим Холодовы впоследствии развлекали гостей: «Раиса Кобыллер вышла замуж за Ефима Мейеровича, присвoена фамилия Холодова».
Кабы человек со скорбной фамилией Могилевский присвоил себе яркий, революционный псевдоним «Октябрьский» – можно понять. Но как раз было наоборот: Борис Октябрьский книжки свои об учёных публиковал под именем «Могилевский». Нередко его, автора, так в двукратном размере и титуловали: «Октябрьский-Могилевский». Вовсе не подразумевая в том смысле, что могила, мол, завоеваниям Октября.
От хорошей ли, от дурной жизни, только частенько обзаводились советские писатели псевдонимами. По разным причинам, - но чаще всё-таки по той самой, единственной. Как в расхожей истории о псевдониме Григория Горина: Гриша Офштейн Решил Изменить Национальность.
Бывали изредка и иные горемычные мотивы. Например, из записных книжек Ильфа: "Наконец-то! Какашкин меняет свою фамилию на Любимов."
Качественный псевдонимчик мог изрядно поспоспешествовать вашему прославлению. Сменил, скажем, никому не известный киноинженер Игорь Рабинович фамилию, ударился об пол и обернулся маститым поэтом Иртеньевым (заверим, что лестный эпитет "маститый" никак не связан с неподобающим мужчине заболеванием "мастит"). Спору нет: гордо звучит псевдоним, благородно, инда по-дворянски! Хоть, говоря откровенно, в сочетании с носатостью носителя, – неубедительно. Ежу понятно: не нашего сукна епанча.
Другой Рабинович, Александр, более тонкий подобрал псевдоним, неожиданный. Вот, друзья сочинили по случаю (хоть мужские фамилии вообще-то склоняются):
Три-та-тушки три-та-та,
Вышла Лилька за Митта.
За Митта-Миттовича,
Сашу Рабиновича.
Даже и на псевдоним не походит, - попробуй, раскуси. К той же серии «Фараду» отнесём, «Севелу» и иже с ними.
Однако встречаются ходы ещё более изощрённые! Об одном таком – сложил протоиерей Михаил Ардов (сам, надо признать, Зигберман) эпиграмму:
Наш сосед Гриша Похес
Пишет совсем неплохе-с.
Он – лучший поэт нашей эпохе-с,
И всей армянской мишпохе-с.
Посвящается Григорию Поженяну. Который с его восточной внешностью и шпанистой повадкой легко сходил за армянина. Высший пилотаж смены фамилии!
Сценарист и прозаик Владимир Крепс, член ВКП(б) с 1927 года, под старость чрезмерно располнел. Неловко даже за человека, только собственный живот ноги от него загораживал и всё прочее хозяйство. И ведь никто из засранцев-писателей (в Дубултах дело происходило, на пляже Дома Творчества) не намекнёт, не подскажет, что вылазят яйца из-под трусов. Общаются с ветераном как ни в чём не бывало, языки чешут, – а промеж себя на смех подымают, роковые те яйца «крепсами» прозвали. До того дошло, писательская дочурка, семи лет от роду, поутру просит:
- Мам, сделай мне яичницу из двух крепсов!


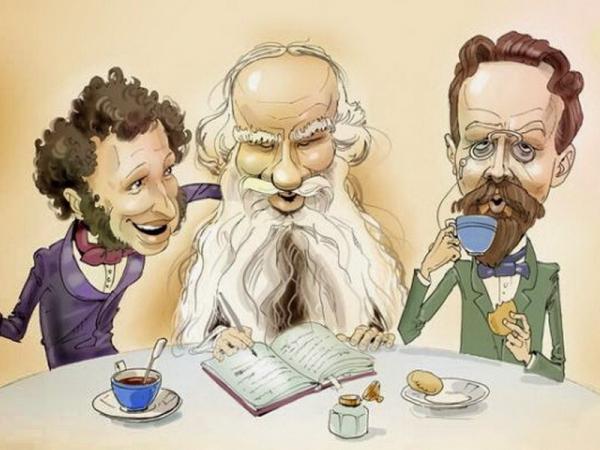


Комментарии
WOW!
Замечательные заметки. Хочется ещё и ещё.
Начальная шутка - «Как от Штока до Вайнштока, так от Зака до Бальзака» - напомнила эпиграмму из советского музыкального мира (позволю себе несколько урезать её):
"Кларе Вакс до Клары Вик,
как Тихону до Шумана".
(Клара Вакс и Клара Вик - жёны Тихона Хренникова и Шумана).
Клара Вакс.
Клара Вакс.
Moishe ben Zvi
Точнее (так мне известно) было так (приписывается, и кажется, верно, Льву Абрамовичу Мазелю):
Погибнет каждый в тот же миг,
Кто скажет необдуманно,
Что Кларе Вакс до Клары Вик
Как Тихону до Шумана
Добавить комментарий