Дорогие читатели,
Сегодня, 24 сентября, исполняется 72 года нашему замечательному автору, другу журнала ЧАЙКА и члену его редколлегии Евсею Львовичу Цейтлину. С днем рожденья, дорогой Евсей!
Совсем недавно в издательстве АЛЕТЕЙЯ вышла книга Евсея Цейтлина «Писатель на дорогая Исхода. Откуда и куда?» Она посвящена писательским судьбам людей, близких Евсею Цейтлину, оказавшихся в поле его зрения и внимания.
Таких людей много, они живут в Америку, Германии, Израиле, Канаде. Это Владимир Порудоминский, Анатолий Либерман, Борис Кушнер, Семен Резник, Лиана Алавердова, Лев Бердников, Игорь Михалевич-Каплан и многие другие.
В книге собраны беседы и очерки, к некоторым судьбам Евсей обращается несколько раз. Евсея Цейтлина интересуют повороты судеб, их неожиданные изломы. Сам прошедший через две эмиграции – в Литву и Америку - писатель напряженно следит за тем, что происходит в жизни коллег.
Мы хотим представить на суд наших читателей один небольшой очерк из книги, посвященный поэту Сергею Корабликову-Коварскому, чья неординарная судьба не может не привлечь внимания – ребенком он был вынесен в корзинке из гетто, где погибла его мать.
От имени редакции журнала ЧАЙКА
Ирина Чайковская
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН
Свет издалека
(Сергей Корабликов‐Коварский)
Лето девяностого года в Литве странно соединило надежды разных людей. Все так мечтали о победе... Но при этом одни думали о том, как навсегда вырваться из «братских» объятий Москвы. Другие же хотели побыстрее вернуться в прошлое — отомстив тем, кто в марте провозгласил литовскую независимость.
Где пролегал водораздел между этими надеждами? Во всяком случае, он определялся не национальностью человека, как могло показаться на поверхностный взгляд.
— ...Мы их утопим в крови... — словно в чем-то сокровенном, признавался мне в те дни сосед, старый литовский коммунист. И он знал, о чем говорил: лучшими годами его жизни были послевоенные — тогда он отлавливал «лесных братьев».
Надежды людей были так очевидны и сильны, что жизнь, не связанная с этими мечтами, точно застыла. Или шла по инерции. Все вокруг казалось пронизанным мрачным, тягостным ожиданием.
Впрочем, как всегда в переломные эпохи, действительность была фантасмагорична. В это же самое время в нескольких комнатах вильнюсской киностудии (фильмы, естественно, выходить уже перестали) расположился Еврейский музей Литвы. Его создавали в конце войны бывшие партизаны и узники гетто. Его ликвидировали в 49-м, борясь с «безродными космополитами». Его восстановили теперь, в раннюю пору литовского национального «возрождения».
Почти все сотрудники музея еще продолжали работать днем в других местах. Встречались вечерами. И — тоже мечтали. Никого не удивляли самые смелые проекты, кажется, пришедшие к взрослым людям из детских снов.
В один из тех летних вечеров я познакомился в музее с необычным человеком. Случайно ли то, что многое в нем показалось мне загадочным, двойственным? Как мир вокруг.
Сергей Корабликов был вильнюсским врачом, но работал в Индии (как раз приехал домой в отпуск), а вскоре собирался репатриироваться в Израиль. Еще недавно его считали русским, но теперь, сказал Корабликов с гордостью, в паспорте появилась новая запись: еврей.
С.К. подарил музею картину. Этой работе художницы Ноны Завадскене была уготована своеобразная задача:
— Да, портрет моей мамы... Долгие годы она была подпольщицей, потом, во время войны, — партизанкой. Неизвестно, как она погибла. У нее нет могилы... Вот и хочу, чтобы местом, где будет жить память о маме, стал этот музей... Пусть здесь хранится мамин портрет, именно здесь — среди фотографий людей, которых давно не стало. В ауре страшной Катастрофы, постигшей евреев. Как и все в Литве в те годы, я не знал будущего, но хотел понять прошлое. Был конец июля. Несколько раз мы встречались с С.К. у него дома. Свою исповедь, которая потом почти шестнадцать лет одиноко жила в моей тетради, он начал вопросом:
— Вы, наверное, знаете этот дом на улице Пилимо? Как раз напротив сейчас находится военторг. Вот там я и родился в декабре сорок второго года. Это то, что я знаю совершенно определенно. Еще знаю: моей матерью была Бася Коварская, а отцом — Макар Корабликов.
— ...Да, вы правильно вспомнили — весь этот район тогда входил в гетто.
— ...Существует несколько версий истории моего рождения, а также истории моего спасения из гетто... Конечно, конечно — я расскажу об этом. Но сначала — о моих родителях.
— ...Мой отец, Макар Клементьевич, происходил из семьи староверов. В годы войны он был в Вильнюсе членом подпольного горкома партии. Моя мама родилась в 1915 году. Она была комсомолкой, потом стала коммунисткой, сидела в довоенной Литве в тюрьме. Кто-то рассказал мне: по специальности она была медицинской сестрой. Правда, я видел другое свидетельство: мама окончила курсы бухгалтеров. Еще она служила воспитательницей в семьях богатых евреев.
— ...Как они познакомились друг с другом, мои родители? Сюжет этот странный, но для военного времени совсем не удивительный.
— ...В юности у мамы была подруга по имени Блюма. Именно она стала (еще до войны) женой Макара Корабликова. У них родился сын. Почему Блюма, в числе семей других партработников, не попала в эвакуацию? Это долгая история. Сейчас речь не о том. Так или иначе в начале войны Блюма пряталась с ребенком в доме своей свекрови, на окрайне Вильнюса. Однажды — это было в конце 1941 года — она стояла у окна. И увидела, как куда-то гнали большую группу евреев. Заметила в этой группе своих родных. Поняла: их отправляют на расстрел, в Понары.
— ...Что она сделала? Блюма особенно не задумывалась: она оставила сына в комнате, а сама спустилась вниз, встала рядом с родителями. И, как другие евреи в той колонне, погибла в Понарах.
— …Что было делать с ребенком? За ним стали ухаживать бабушка и тетя. Иногда приходила понянчить малыша подруга Блюмы — Бася. Моя мама. Она тоже скрывалась тогда в городе. —
...Их роман с отцом развивался стремительно. Мой брат Илья — сын отца и Блюмы — только на полтора года старше меня.
— ...Потом маме все-таки пришлось уйти в гетто. Прикрепив к одежде звезду Давида, туда постоянно проникал и отец — по делам подполья.
— ...Как меня вынесли из гетто? Это тоже удивительный сюжет! Сестра отца Фетиния Клементьевна Корабликова-Черницова выносила меня из гетто в обыкновенной корзине! Говорили, что в этой самой корзине меня спустили на веревке из окна многоэтажного дома.
— ...Представьте себе, я долго думал, что эта замечательная женщина и была моей матерью. Тогда, во время войны, она умело имитировала все признаки беременности. И потом официально зарегистрировала меня как своего сына. До 1953 года, пока не умерла Фетиния Корабликова, я не знал, что у меня была другая мама.
— ...Не раз я пытался восстановить вехи биографии Баси Коварской. И — прежде всего — историю ее трагической смерти. Скажу сейчас коротко: мой отец сумел вывести маму из гетто. Потом она ушла в партизаны... Был такой момент, когда отряд разделился на две группы. Одна — там была и моя мама — уходя с боями от фашистов, попала в болото. Мама погибла где-то возле Нарочи. —
...Во время войны погиб и отец. Меня и старшего брата (между прочим, его фамилия по матери — Троцкий) воспитывали — в трудностях и мытарствах — тетя Фетиния и бабушка Евдокия Харлампиевна. Женщины с сильным характером.
— ...Да, от бабушки я и услышал впервые историю о том, как меня несли из гетто в корзине. Кто знает, может быть, было все иначе. Хотя ту же версию подтвердила подруга Фетинии — полька Мария Шаткевич. Будто бы именно она несла меня вместе с тетей в той самой корзине... По иронии судьбы, я так любил в детстве народную песню: «По веревочке в окно».
— ...Не знаю, по каким уж причинам, но о моем отце, герое-подпольщике, вспоминали после войны не слишком охотно. Вроде бы, никто и не отрицал его заслуг, но и льгот в связи с этим нашей семье никаких не было. Все же один из друзей отца, занимавший высокий пост в послевоенной Литве, помог поступить мне в суворовское училище.
— ...Трудные для меня годы. Все во мне сопротивлялось армейскому режиму. Училище находилось в Туле. Мне было там одиноко. Я совсем не походил на других воспитанников... Уходил от всех. Писал стихи. Пытался даже выйти из комсомола, ощутив фальшь и бесполезность этой организации. Между прочим, та история мне на многое открыла глаза. Однажды на собрании, будучи заместителем комсорга роты, я положил на стол свой комсомольский билет. Какая была реакция? Меня объявили больным, поместили на две недели в психиатрическую клинику. И, конечно, то уговаривали, то заставляли — взять билет назад. Я сдался не сразу. После того, как на несколько дней меня перевели в палату для буйных больных. Там я увидел взрослого человека, на которого тоже давили — преступно, безжалостно. Я понял: передо мной — страшная машина. И я сделал то, чего от меня хотели. Сделал вид: ничего не было.
— ...Собственно, еще в раннем детстве я слышал еврейский язык, слышал разговоры об евреях. Прежде всего потому, что к нам, в дом к бабушке, приходили мои еврейские дяди — братья матери, спасшиеся в начале войны.
— ...Потом, позже, бабушка рассказывала мне о маме. А ее братья даже показали мамины фотографии. Бабушка была мудрым человеком. Она, староверка, считала: я должен знать правду о своем происхождении. И более того — эту правду нужно зафиксировать документально. В пятидесятые годы, когда умерла тетя, моя приемная мать, бабушка нашла свидетелей, которые рассказали в суде обо всем. Об обстоятельствах моего рождения, спасения из гетто. О том, почему тетя вынуждена была записать меня своим сыном. Именно на основании тех свидетельств мне недавно сменили паспорт. Теперь там есть эти пять букв: еврей.
— ...Но вернусь в детство и юность. Я постоянно думал тогда о своем еврействе. Кстати, понимал: если я не буду скрывать, кто была моя мать, это может мне сильно повредить. И одновременно — я не хотел скрывать этого. Иногда я шел на компромисс: писал в анкетах, что у меня было две матери — родная и неродная. Но в отделах кадров эти анкеты упорно не принимали — возвращали мне назад.
— ...Я часто пытался представить гетто. Вильнюсское гетто, где погибли мамины родные и где я родился. Учась в суворовском училище, с жадным интересом посмотрел два фильма о гетто. Помню их до сих пор: «Звезды» и «Девятый круг». Я ощущал — бесспорно, остро: все это непосредственно относится ко мне.
— …Кончилось детство. Тоскливо пришла юность. Я решил стать врачом. Сначала учился в военномедицинской академии. Потом неприязнь к армии победила — перешел на дневное отделение в Ленинградский педиатрический медицинской институт. Вечерами и ночами работал санитаром. И опять чувствовал себя чужим, посторонним в этом мире.
— ...Между прочим, я работал в клинике, где было много детей, от которых отказались родители. Беда, одиночество, бесприютность. В стенах клиники эти понятия не были абстрактными... Там я познакомился с девушкой-санитаркой. Ее звали Людмилой. Она тоже была студенткой — как и я, подрабатывала, чтобы выжить. Почему однажды я предложил ей пожениться? Наверное, и для того, чтобы преодолеть свое собственное одиночество. Она очень удивилась. Но неожиданно, через день, дала согласие. Это было в 1966-м. Ни мои, ни ее родственники не хотели нашего брака. А руководство клиники устроило нам пышную свадьбу с коньяком. Сейчас трудно представить, как мы были бедны. Помню, чернокожий приятель, с которым я играл в бадминтон, одолжил мне сто рублей на свадебный костюм...
— ...Окончив в Ленинграде три с половиной курса, я переехал вместе с женой в Литву. Поначалу жили у дяди. В 1970 году получил диплом медицинского факультета Вильнюсского университета.
— ...Я специализировался в области кардиологии. И это захватило меня! Написал даже кандидатскую диссертацию, уже прошла ее предзащита... Со мной поступили подло, не стоит рассказывать эту историю подробно. Обида застилала мне тогда глаза. Положил диссертацию в дальний ящик стола. Пошел в Министерство здравоохранения: нельзя ли поехать работать за границу? Это было уже в 1988-м. После специальной ординатуры меня послали на работу в Уганду. Однако там началась война. Я продолжал работать в Вильнюсе, заместителем главного врача. Через год все же попал за границу — в Южный Йемен.
— …Мысли о маме, о евреях и еврействе никогда, в сущности, не покидали меня. Примечательно: я всегда ощущал себя и русским, и евреем — одновременно. Но русской своей «части» я отдал большую половину жизни, теперь вот испытываю угрызения совести: я ведь еврей, я сын своей матери Баси. Пока у меня есть еще силы, я должен сделать что-то важное, чтобы доказать это.
— ...Помню, как приехал в Израиль в гости. Меня поразила эта маленькая страна. Я почувствовал: народ Израиля — мой народ. Однажды, в День поминовения, ко мне неожиданно подошли несколько человек, которые знали маму в юности. Что разглядели они в моем лице? Но я услышал: «Это же сын Баси!» Мне показалось вдруг тогда: моя мама действительно ожила.
— ...Представьте себе: нашел в Израиле двадцать человек, которые хорошо помнят маму. Я увидел фотографии своих бабушки и дедушки. Эти снимки были сделаны еще в довоенной Литве. Лица, глаза на фотографиях спокойны — люди не знают, что им предстоит.
— ...Да, я решил уехать в Израиль. И лишь одно не перестает мучать меня. Существует ли могила мамы? — ... Вновь и вновь задавал себе этот вопрос, пока, наконец, неожиданная мысль не родилась где-то внутри меня. Я взял одну из фотографий мамы и пошел к художнице Ноне Завадскене. Я попросил ее сделать мамин портрет. Я рассказал Ноне все, что узнал в эти годы о юной Басе, ее жизни и смерти, ее любви. О своих поисках — мамы, себя.
— ...Мне очень нравится тот портрет, который написала Нона. Вы ведь знаете, я подарил этот портрет Еврейскому музею Литвы. Может быть, сюда я и буду потом приезжать? Пусть не на мамину могилу — к ее портрету.
* * *
Тетрадь, куда я записал рассказ С.К., давно пожелтела, истерлась. Хорошо хоть не пропала при переездах.
Конечно, все эти годы я помнил о нем. Все эти годы, вобравшие в себя его и мою эмиграции. Не раз спрашивал знакомых израильтян: не встречали ли они врача Сергея Корабликова? Где он? Увы, никто ничего толком не знал.
Я услышал о С.К. внезапно.
Недавно, в середине января, иерусалимский книговед и издатель Леонид Юниверг рассказывал мне по телефону о своих, как всегда интересных, проектах. Вдруг припомнил:
— ...Выпустили мы и сборник стихов, который вас наверняка заинтересует. Автора когда-то вынесли из Вильнюсского гетто в обычной корзине.
Я не сдержался, воскликнул: — Вот он и объявился, Сергей Корабликов! Наша беседа с С.К. в третьем тысячелетии опять была долгой. Но ничего неожиданного для себя я не услышал.
Здесь мне, наверное, надо объяснить читателю эту свою странную реакцию. Я наблюдал в эмиграции множество сломанных судеб. Трагических, однако типичных. Когда начинаешь в пятьдесят, неудача вовсе не исключение из правила, скорее — закономерность. Но я никогда не сомневался: новая жизнь С.К. обязательно будет счастливой. Так и оказалось.
Признаюсь: когда я познакомился с С.К., меня привлекли не столько «детективные» обстоятельства его появления на свет и последующего спасения, сколько ситуация выбора: это и была главная реальность, в которой С.К. жил долгие годы. Вот с чем, прежде всего, были связаны его метания, двойственность, своеобразная «текучесть» сознания.
Если воспользоваться термином иудаизма, С.К. был типичным «украденным ребенком» — воспитывался и рос в отрыве от национальных традиций. Его душа требовала «возвращения». И оно произошло — тем летом девяностого, когда вся Литва тоже совершала свой выбор. Ну а остальное — было ли таким уж трудным?
— Первое время в Израиле, — рассказывал С.К., — я сам себе казался Мартином Иденом: работал по двое суток, спал один раз в три дня. Целый год вкалывал на стройке. Когда получил разрешение заняться врачебной практикой, нисколько не сомневался: не стоит искать место в госпиталях Иерусалима или Тель-Авива. Лучше сразу отправиться в глубинку. Так я попал в Тверию. Конечно, моя жизнь и сейчас остается тяжелой (врач реанимационного отделения, изматывающие дежурства, экстремальные ситуации, по-прежнему — «вгрызание» в иврит). Но все это гораздо легче, чем лабиринт сомнений. И главное: трудности не затмили то, ради чего я приехал в Израиль. Здесь уже отслужили в армии два моих сына. И растут внуки, для которых Израиль — родина.
…Я многое понял в жизни С.К., когда получил от него по почте тоненькую, изящно изданную книгу — «Белые птицы».
Сразу бросилось в глаза имя автора на обложке: Сергей Корабликов-Коварский. («Это было очень важно для меня — наконец-то присоединить фамилию мамы к своей. Это был еще один шаг...»)
Он всегда писал стихи в трудные, «переломные», по выражению самого С.К., моменты жизни. В стихах он мог, например, мысленно обратиться к отцу:
Мой юноша милый, немножко наивный,
Впечатанный в плоскость стены,
Мы больше не веруем в гимны
Нас всех обманувшей страны!
Здесь, в стихах, написанных еще в 1970-м, не таяли воспоминания:
Я — немой, я едва прозревший
В закутке у чердачных дверей...
Здесь (уже в 2005-м) автор подводил самые первые итоги пути:
Вот и прожита жизнь —
А могло бы не быть
Этих сосен, и неба, и моря!
Осмысляя судьбу своих уничтоженных предков, литваков, автор пытался понять: может быть, совсем не случайно то, что ему — подобно библейскому персонажу — было даровано чудесное спасение?
...Я от бывшего леса —
Одинокий невыжженный куст,
Подпаленный,
И тем удивленный,
Что выжил...
Стихотворный сборник С.К. был одновременно его семейным альбомом: редкий портрет отца, множество фотографий мамы, ее родственников и друзей... И, конечно, смотрели на нас «святые лица»: Фетиния и Евдокия Корабликовы. («В Литве их посмертно наградили крестом «За спасение погибающих», в Израиле удостоили звания “Праведник среди народов мира”».)
Отрываясь от чтения стихов С.К., я долго вглядывался и в другие иллюстрации, помещенные в книге, — фотографии улочек, дворов бывшего гетто.
...Я пришел сюда июльской ночью, после нашей беседы с С.К.
К моему удивлению, в нескольких окнах того самого дома горел свет.
Почему меня вдруг охватила тревога? Я задумался, вспомнил разговор с С.К. и спросил себя: неужели это страх перед будущим?
Я снова стал смотреть на освещенные окна. Казалось: они что-то помнят, знают. И — спорят со мной.
1990–2006


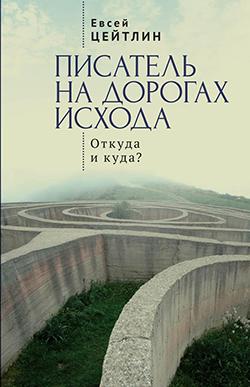


Добавить комментарий