От автора
В декабре прошлого года в России и русскоязычном сетевом пространстве широко отмечалось столетие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. В связи со знаменательным юбилеем в серии ЖЗЛ была переиздана книга Людмилы Сараскиной «Александр Солженицын». Впервые она вышла в той же серии более десяти лет назад, еще при жизни А.И. Солженицына. Тогда же я откликнулся на нее критическим эссе «Сквозь чад и фимиам». Оно было опубликовано в сетевом журнале «Заметки по еврейской истории» (№ 12 (103), декабрь 2008), а так же вошло в мою книгу под таким же названием (М., Academia, 2010). Бегло перелистав новое издание книги Л. Сараскиной, я убедился, что оно не отличается от первого. Ее повторный выход в свет в дни солженицынского юбилея делает актуальным и мое эссе десятилетней давности. Предлагаю его вниманию читателей «Чайки». В текст внесена небольшая правка косметического характера, но существенно обновлен зрительный ряд.
С.Р.
1.
До 90-летнего юбилея Александр Исаевича Солженицын не дожил четырех месяцев. Близящееся завершение своего жизненного пути он, видимо, задолго предчувствовал, что понятно в таком преклонном возрасте, и приложил немало сил к тому, чтобы успеть сказать о себе последнее слово, да не своим, а посторонним, но жестко контролируемым пером.
За два-три месяца до кончины Александра Исаевича в серии «Жизнь замечательных людей» вышла его биография.
На обложке стоит имя автора – Людмила Сараскина. Это литературовед, доктор филологических наук, специалист по Достоевскому. Тем не менее, автором книги ее можно считать лишь условно. В лучшем случае, она соавтор, а в более точном смысле – добросовестный литзаписчик АВТОбиографии Солженицына.
Я ни в коей мере не хочу умалить огромный труд, проделанный доктором Сараскиной, лишь подчеркиваю тот факт, что на протяжении девятисот с лишним страниц гигантского повествования невозможно услышать ее собственный голос, заметить хотя бы робкую попытку самостоятельно осмыслить описываемые события, документы, высказывания, обнаружить следы независимой авторской позиции – нравственной, эстетической, общественно-политической или какой-то еще.
О том, что решающая роль в создании книги принадлежала Александру Исаевичу, Л. Сараскина сообщает вполне откровенно. Она благодарит его «за многолетнее сотрудничество», «за щедро представленные материалы из его личного архива», за «терпение, с каким он под магнитофон многими часами в течение длительного времени отвечал на мои вопросы, и потом еще по телефону, и в записках, и в письмах, и снова на пленке», а главное, «за доверие» (стр. 900-901; ссылки здесь и далее даются на первое издание).
Доверие она оправдала. Книга была проверена и санкционирована Солженицыным, о чем она тоже не скрыла. Даже о «своем» творческом методе она сообщает не собственным голосом, а голосом своего героя.
Задаваясь в начале повествования вопросом, «как, через какую оптику [следует] смотреть [биографу], и главное, что хотеть увидеть», Сараскина пишет:
«Самое высокое достижение Пушкина он [Солженицын] видит в непревзойденной способности поэта ... “все сказать, все показываемое видеть, осветляя его (курсив Солженицына.—С.Р.). Всем событиям, лицам и чувствам, и особенно боли, скорби, сообщая и свет внутренний, и свет осеняющий, -- и читатель возвышается до ощущения того, что глубже и выше этих событий, этих лиц, этих чувств... Горе и горечь осветляются высшим пониманием, печаль смягчена примирением”» (стр. 18).
Следуя этой установке, Сараскина прокламирует: «Осветлять предмет высшим пониманием, а не пятнать его низменными искажениями – вот он, искомый принцип работы биографа». Поясняя, как именно она намерена осветлять, она тут же приводит «замечание Солженицына в адрес критика-пушкиниста: “Уж литературоведу надо бы уметь видеть писателя в тех контурах, к которым он рос и тянулся, а не только в тех, которые, по нескладности жизни, он успел занять”» (стр. 18).
Осветлять высшим пониманием – это очень благородно, а не пятнать низменными искажениями – еще благороднее. Проблема в том, что жизнь героя биографического повествования протекает не в вакууме. «В нескладности жизни» он входит в соприкосновение с множеством других людей – одни становятся друзьями, другие соперниками, а третьи из друзей и единомышленников превращаются в противников и соперников. Возникают конфликты. Не приведет ли осветление высшим пониманием поступков и облика одного из участников конфликта к низменным искажениям другого? Часто приводит.
За примером далеко ходить не надо, он обнаруживается в том самом фрагменте об «искомом принципе биографа». Не названный по имени «уж литературовед», коему надлежало «уметь видеть писателя в контурах» (а он, стало быть, не умел), – это Андрей Донатович Синявский, чью книгу «Прогулки с Пушкиным» Александр Солженицын в свое время подверг остракизму.[1]
«Прогулки с Пушкиным» не угодили Александру Исаевичу тем, что автор позволил себе запросто прогуливаться с великим поэтом вместо того, чтобы денно и нощно бить челом перед его иконописным изображением, осветленным таинственным мерцанием лампадки. А, говоря проще, Синявский осмелился показать поэта в тех «контурах», которые он занимал в «нескладности жизни», а не в тех, к которым тянулся. А если совсем просто, то Александр Исаевич осерчал на Андрея Донатовича за то, что тот рассказал о Пушкине по-своему, пренебрегая «патриотическими» канонами, кои Солженицын считал обязательными.
У Синявского с советской властью, по его ироничному замечанию, были «только» стилистические разногласия. И вот такие же разногласия выявились у него с Солженицыным. Андрей Донатович ответил едкой статьей под названием «Солженицын как устроитель нового единомыслия».[2]
Да если бы один Синявский не угодил Александру Исаевичу! После высылки из Советского Союза в 1974 году, в короткий срок, Солженицын оказался в контрах со значительный частью писателей, журналистов, правозащитников, эмигрировавших из СССР из-за своих «стилистических» разногласий с режимом. Когда президент США Рональд Рейган пригласил группу наиболее известных диссидентов в Белый Дом, чтобы обсудить положение с правами человека в их стране, Солженицын участвовать отказался. Он заявил, что готов беседовать с президентом один на один, а вместе с «этими» рядом не сядет. На тех, кто шагал с ним не в ногу, он накидывался с совершенно иррациональной яростью. Вот как это выглядит в изложении Л. Сараскиной:
«Всю вину за мерзости коммунистического режима взваливают на проклятый русский народ, на его извечную рабскую сущность и природное варварство. По их философии, скотская русская масса сама виновата в ленинизме и сталинизме. По их прогнозам, русское самосознание тяготеет к фашизму и экстремизму; русское православие к исламскому фундаментализму; русская государственность – к свирепому империализму; русский общественный инстинкт – к еврейскому погрому. Угроза Западу – не коммунизм, не сталинизм, а сама Россия, ее народ с его аморальной рабьей ментальностью. Солженицын нарисовал выразительный (и отвратительный!) портрет тех деятелей эмиграции, кто прежде обслуживал советский режим “на деликатном идеологическом фронте”, а потом, теряя по дороге партбилеты, потянулся на Запад, где, встав в позу чистых и невинных, не стеснялся клеймить ненавистную страну». (стр. 761)
Сараскина приводит выписку из дневника Солженицына от 31 мая 1982 года, в которой он раскрывает свои полемические приемы: «С увлечением работаю над дискуссией с Тараканьей Ратью. Какие бывают приемы дискуссии? Просто выписывать все их утверждения, хотя самые фальшивые, – они начнут забирать поле боя. Опровергать тут же каждое – утомит, раздражит читателя. А – опровергать только в важных местах. И еще кое-где сочетать так, чтобы они сами друг друга опровергали» (стр. 762).
Примечателен заключительный пассаж этой записи. Тараканья-то Рать вовсе не была Ратью, то есть чем-то монолитным. Она состояла из отдельных Тараканов, кои придерживались разных точек зрения. Солженицын это сознавал, играл на этих разногласиях, но выставлял их единой ратью – так было легче их оглуплять и выставлять «врагами России».
Если и попадались в эмиграции недоумки, ставившие знак равенства между коммунистическим режимом и страдавшим от него народом, то не они задавали тон. Если кто-то из эмигрантов состоял в прошлом в компартии, а потом вышел из нее, то так ли сильно отличался от них сам Зевс-громовержец? В партии он не состоял, но беспартийным большевиком-ленинцем был и даже пахана Сталина атаковал во фронтовых письмах (за что и попал в лагерь) с твердокаменных ленинских позиций. Антиленинцем и антикоммунистом он стал много позднее. Довольно типичная, заметим, эволюция для мыслящих людей его поколения. Но то, что прилично Юпитеру, то непозволительно Тараканам. Нарисованный им портрет деятелей эмиграции был всего лишь злой карикатурой, в которой, при желании, легко узнавался и сам громовержец.
«Он победил», провозглашает Сараскина, завершив пересказ статьи Солженицына «Наши плюралисты». Но умалчивает, что то была Пиррова победа. Никого и ни в чем его статья не убедила, зато способствовала еще большему расколу эмиграции, из-за чего в ней так и не возникло единого антикоммунистического фронта. Когда пришли сроки самораспада советского режима, роль эмиграции в переводе России на рельсы цивилизованной демократии оказалась ничтожной. Хуже того, в самой России эпигоны Солженицына усиленно создавали климат такой же нетерпимости и раскола. В том, что постсоветская Россия так и не смогла вырулить на путь здорового демократического развития, в немалой степени результат их раскольнических действий.
Вот маленькая иллюстрация к сказанному. Когда в Советском Союзе началась перестройка, и в прорехи в железном занавесе стали просачиваться струи свежего воздуха, осмелевший журнал «Октябрь» опубликовал отрывок из «Прогулок с Пушкиным» Андрея Синявского. И тотчас ринулся в бой крупный математик и бывший «православный» диссидент Игорь Шафаревич – один из самых стойких эпигонов Солженицына. К тому времени он уже прославился скандальной «Русофобией». Шафаревич усмотрел в публикации книги Синявского идеологическую диверсию против России со стороны «малого народа», «одну из проверок жизненности нашего [большого] народа, его способности дать отпор».
«Недавно аналогичная ситуация прогремела по всему свету, – проводил параллель Шафаревич. – Знаменитые “Сатанинские стихи” Салмана Рушди – это, по-видимому, нечто вроде исламского варианта “Прогулок с Пушкиным”. И надо сказать, что исламский мир своей реакцией на это прощупывание еще раз доказал свою большую жизненную силу... Реальным ответом были грандиозные демонстрации, то, что в столкновениях с полицией сотни людей отдали свои жизни и в результате удалось добиться запрета книги во многих странах».[3]
Так в стране, только что начавшей освобождаться от пут партийной цензуры, самый видный последователь Солженицына потребовал запрета на неугодное произведение – по примеру аятоллы Хомейни и подобных ему блюстителей единственно правильного учения. Он готов был пожертвовать сотнями русских жизней, чтобы оградить большой народ от крамолы Синявского. Для полного соответствия такого православия исламскому фундаментализму не хватало только смертного приговора автору «Прогулок».
Как видим, столкнулись два противоположных воззрения на искусство, литературу, на их назначение в жизни общества, на творческую и гражданскую свободу, на место религии в общественной и государственной жизни, на то, в конечном счете, по какому пути пойти России после ликвидации коммунистического рабства. Хотя в заключительном акте драмы Солженицын напрямую не участвовал, затравка шла от него. Можно ли обойти этот конфликт в книге о нем?
Не только можно, но даже нельзя не обойти! Да и как рассказать о столь серьезном противостоянии двух концепций, идеологий, двух систем ценностей, если цель автора, – осветлять носителя одной из этих концепций, задвигая в темный угол другого. Безымянному «уж литературоведу» дают пинка вместо того, чтобы дать ему слово. Имя Андрея Синявского даже не названо. В обширный список «Биографической литературы о А.И. Солженицыне» (стр. 931-933) ни одна его работа не включена. «Список населенных мест Терской области» 1885 года издания (33 года до рождения Солженицына) педантично указан; работа двух авторов под названием «Города Воронежской губернии, их история и современное состояние», увидевшая свет еще одним десятилетием раньше, тоже в список внесена. А работы известного прозаика и литературоведа Андрея Синявского, прямо адресованные Солженицыну, но ему неугодные, – отсутствуют.
Это не единственное упущение. В списке литературы прицельно отсутствует целый ряд работ, без которых полноценной биографии Солженицына быть не может.
Я не говорю о клеветнических сочинениях, состряпанных в свое время по заказу или под давлением КГБ, – в надежде ослабить эффект от публикации на Западе «Архипелага ГУЛАГ». Отсутствие этих грязных поделок в списке литературы можно понять и принять, ибо ни к литературе, ни к истории они отношения не имеют. Впрочем, в ходе повествования эта стряпня густо цитируется и настойчиво опровергается, хотя инсинуации биографов от КГБ, типа чешского «диссидента» Томаса Ржезача, давно и многократно опровергнуты и посрамлены, да им и изначально никто не верил. Стоило ли снова к ним возвращаться?
Согласно стратегии осветления, было просто необходимо. Опровергая грязное гебистское вранье, можно под ту же крышу подвести всяких вообще оппонентов, уходя от обсуждения их критики по существу. Прием хорошо отработан Солженицыным в литературных баталиях, примером чему может служить статья «Наши плюралисты», о которой уже говорилось.
Таким же приемом Л. Сараскина расправляется почти со всеми, кто когда-то и в чем-либо был не согласен с Солженицыным.
2.
История русской литературы не знает или почти не знает писателей, которые издали при жизни так много автобиографических произведений, как Александр Исаевич Солженицын. А количество прижизненных текстов, опубликованных о нем другими авторами, вообще необъятно. Только Наталья Решетовская, первая жена Солженицына, – автор шести книг о своем бывшем муже. По несколько книг написали его товарищи-зэки Дмитрий Панин и Лев Копелев. Три книги написал новомировец В. Лакшин. Изданы рабочие тетради главного редактора «Нового мира» А.Т. Твардовского, дневник другого новомировца – А. Кондратовича. О школьных и студенческих годах Солженицына написали его бывшие однокашники, о военных годах – однополчане. О Солженицыне-диссиденте – Жорес и Рой Медведевы, Корней и Лидия Чуковские, о Солженицыне-эмигранте написали Ольга Карлайл, священник А. Шмеман и другие авторы, указанные и не указанные Сараскиной в списке литературы.
В числе отсутствующих мемуары и публицистические работы философа Григория Померанца, который на протяжении многих лет вел с Солженицыным принципиальную полемику. Нет в списке книги Владимира Войновича «Портрет на фоне мифа», Григория Бакланова «Кумир», Семена Бадаша «Колыма ты моя, Колыма» и его открытого письма Александру Исаевичу, оставленного без ответа. Нет письма Льва Копелева, весьма важного для понимания сути конфликта, возникшего между бывшими друзьями-зэками, нет даже наиболее полной и тщательно документированной биографии Солженицына, написанной А. Островским и опубликованной за четыре года до книги Сараскиной.
Несмотря на поистине необъятный объем написанного о Солженицыне им самим и другими авторами, в его биографии много запутанного и неясного. Это относится и к конкретным фактам его жизни, и к его мировоззрению, взглядам, идейной и нравственной позиции по важнейшим общественным, политическим, идеологическим вопросам.
Солженицын слишком долго был человеком подполья, а когда отпала необходимость таиться и конспирировать, он по своей психологии, привычкам и навыкам так и остался подпольщиком. В ответ на грязные небылицы, какие распускали о нем противники, он не ограничивался правдой, одной только правдой, и ничем кроме правды. Разгребая завалы злобных наветов, он не останавливался перед спрямлением зигзагов своего жизненного пути. В одних случаях он привирал, чтобы не давать повода к новым инсинуациям, в других – чтобы их упреждать, в третьих – для того, чтобы подать себя в наиболее выгодном свете... Опыт лагерника научил его «развешивать чернуху» (похоже, впрочем, что он умел это делать еще до лагеря), и он до конца жизни пользовался этим опытом. Человек, выступивший с набатным призывом «Жить не по лжи», – самого себя не обязывал следовать этому правилу.
Загадки солженицынской биографии начинаются со времени, предшествовавшего его рождению. Первая связана с именем его отца, Исаакия Семеновича Солженицына. Офицер царской армии, провоевавший всю мировую войну без единой царапины, в июне восемнадцатого года, на охоте, то ли по роковой неосторожности, то ли намеренно решив свести счеты с жизнью, он выстрелил себе в живот и через несколько дней скончался в сельской больнице от заражения крови. Его молодая жена Таисия Захаровна (урожденная Щербак) была на четвертом месяце беременности. Их сын Александр появился на свет через полгода после кончины отца – 11 декабря.
Дабы читатель не заподозрил неладного, Сараскина настойчиво поясняет, что отец писателя был назван Исаакием не по имени библейского патриарха Исаака, а по имени православного святого Исаакия, жившего, по преданию, в III веке, – того, в чью честь воздвигнут знаменитый Исаакиевский собор в Петербурге. Намек понят: по линии пятого пункта Солженицын чист, как слеза ребенка. Правда, в приведенном ею же свидетельстве о смерти значится: «гражданин Ставропольской губернии, села Сабли Исаак [не Исаакий] Симеонов Солженицын, 27 лет от роду, умер от раны июня 15 дня» (стр. 75-76).
Его сына, стало быть, звали Александр Исаакиевич или Александр Исаакович.
Однако всему свету он известен как Александр Исаевич...
Ничего особенного в перемене отчества нет. Каждый человек имеет право называться так, как ему нравится. В Советском Союзе для изменения имени, фамилии и даже отчества были вполне легальные пути. Многие этим пользовались. Достаточно было подать официальное заявление, заплатить умеренную плату, и через несколько дней получить паспорт с новым именем взамен старого. Отчество, насколько знаю, сменить было сложнее (для этого должен был изменить имя отец, а если его уже не было в живых, то, понятно, свое имя он изменить не мог), но и эти трудности были преодолимы, – было бы желание.
Загадка состоит в том, что, как пишет Сараскина, такого желания у Сани Солженицына и его матери не было! Следуя за своим героем, она сообщает, что перемена отчества произошла случайно. «Досадную ошибку допустила паспортистка, выдав 16-летнему юноше его первый паспорт», после чего «они с мамой думали-гадали, как быть, требовать ли в милиции исправлений, нет ли, но решили не будить лихо, пока оно тихо» (стр.135).
Какое «лихо» могло бы пробудить заявление о необходимости исправить ошибку? Вот не исправленная ошибка была чревата пробуждением «лиха» – если не сам юноша, то многоопытная Таисия Захаровна должна была это понимать. Ведь паспорт был не единственным документом советского человека. Комсомольский билет Саня получил задолго до паспорта. Да и в школьном аттестате, по свидетельству Сараскиной, он тоже был Исаакиевич. А еще Сане предстояло получить профсоюзный билет. И военный (или красноармейскую книжку). И студенческий – сначала Ростовского университета, а затем и второй – Московского ИФЛИ, куда, не прекращая учебы в Ростове, он поступил заочно.
Еще приходилось заполнять множество анкет. Шагу нельзя было ступить в советской стране, не заполнив анкету, и в ней всякий раз требовалось сообщать сведения о родственниках, порой и не близких, а об отце – всегда и всенепременно. При официально смененном отчестве особых проблем с этим быть не могло: информация о том вносилась в надлежащий пункт анкеты. «Но ведь не будешь на каждом шагу объяснять, какую досадную ошибку допустила паспортистка», – пишет Сараскина. Верно, не будешь! Незаявленную «ошибку» надо было скрывать и, значит, вписывать ложное имя отца, что было уже связано с риском, ибо подобные манипуляции в официальных документах власти трактовали как подделку, а это грозило отнюдь не мелкими неприятностями.
Операция была проделана очень искусно, связь с отцовским именем удалось обрубить с концами, не оставив следов. Впоследствии даже чекистские следопыты не смогли до нее добраться – ни в 1945-м, когда арестованного Александра Исаевича допрашивал на Лубянке следователь Езепов (по версии Солженицына, не шибко старательный), ни еще через 20 лет, когда та же Лубянка снарядила целую экспедицию для сбора компромата на опального писателя. Как докладывал КГБ Центральному Комитету КПСС, «Солженицын в своих автобиографических данных по существу ничего не сообщает о своих родителях, не указывая даже фамилий, имени и отчества. С целью получения более полных сведений проводилась проверка по месту рождения Солженицына [в Кисловодске] и местам жительства, учебы и работы, просматривались учетные, архивные и другие официальные документы... В автобиографии, находящейся в личном деле члена Союза писателей, он указывает, что родился в семье служащих, мать работала машинисткой-стенографисткой, а отца потерял до своего рождения.... В материалах архивного следственного и оперативного дела на Солженицына в архивах Министерства обороны СССР данных о родителях Солженицына не содержится».[4]
Не доискались ищейки, а то-то были бы именины сердца! В конце шестидесятых и позднее, до самой высылки писателя из страны, хорошо проинструктированные «лекторы по распространению», выступая в закрытых и не очень закрытых аудиториях, антисоветизм «литературного власовца» увязывали с его якобы еврейской фамилией Солженицер, но такая перелицовка выглядела не очень убедительно. Как бы кстати им пришлось открытие его изначального отчества, столь неотразимо похожего на кричаще еврейское Исаакович!
Все это очень хорошо, просто великолепно!
Но зачем и через сорок-пятьдесят лет, уже у гробового входа, понадобилось ему развешивать чернуху об «ошибке паспортистки»?
Другим примером развесистой клюквы может служить то, как преподносится Сараскиной освобождение Солженицына от призыва в армию.
В первой своей книге о Солженицыне, написанной и опубликованной под контролем КГБ, Наталья Решетовская сообщала, что Саня был «ограниченно годен» к военной службе из-за нервной болезни. Ее заказчикам было выгодно представить автора «Архипелага ГУЛАГ» если не психом, то сдвинутым по фазе невротиком. Самый въедливый из биографов Солженицына А.В. Островский сопоставил это свидетельство с более поздними свидетельствами Решетовской, когда она, раскаявшись в своих действиях, пожелала дезавуировать свои прежние инсинуации. Тогда она сообщила, что никаких проблем с нервной системой у Сани не было, а была у него медицинская справка, которую он «постарался получить» через их общую приятельницу Лиду Ежерец. Ее отец был видным в Ростове медиком – он и помог организовать справку об «ограниченной годности». Не хотелось Сане в мирное время (как подчеркивала Решетовская, не желавшая вновь бросить на него какую-то тень) загреметь в армию, прервав из-за этого учебу в университете.[5] Что ж, по-человечески это можно понять.
В 1939 году новоназначенный нарком обороны Тимошенко получил мандат на наращивание численности вооруженных сил, в связи с чем была проведена реформа. Среди прочего была отменена отсрочка для получения высшего образования. Тогда забрили многих студентов, не дотянувших до диплома. Кстати, время было не очень мирным: в 1939-40 году разразилась зимняя война с Финляндией, на которую попали и недоучившиеся студенты. Кто-то из них с нее не вернулся. Солженицын же, имея справку об «ограниченной годности», беспрепятственно доучился на математическом факультете Ростовского университета и 16 июня 1941 года получил диплом с отличием.
Магическое действие справки этим не завершилось.
22 июня 1941 года, в день нападения Германии на СССР, Саня оказался в Москве: приехал на летнюю экзаменационную сессию для заочников МИФЛИ (она, конечно, была отменена). По уверению Солженицына и Сараскиной, он сразу же отправился в Сокольнический райвоенкомат, чтобы записаться добровольцем на фронт, но получил от ворот поворот: иногородних не берем, обращайтесь по месту постоянной прописки. Он вернулся в Ростов и, опять же по его уверению, дневал и ночевал в военкомате, но в отправке на фронт ему отказывали. Поверить этому не то что трудно – просто невозможно. В панике первых месяцев войны забривали всех подряд, а уж добровольцам отказа не было. Мальчишки пятнадцати-шестнадцати лет, накинув себе годы (чего никто не проверял), бежали на фронт из-под опеки родителей. Брались за оружие старики, отвоевавшие свое еще в Первую мировую и Гражданскую. Надо полагать, что и 21-летнему Сане Солженицыну не отказали бы даже и при «ограниченной годности».
Но вместо этого, 1 сентября (уже почти месяц как пал Смоленск) он начинает преподавать математику в средней школе города Морозовска Ростовской области. Мобилизационную повестку он получил лишь 16 октября 1941 года (немец уже рвался к Москве). Но и надев красноармейскую форму, он не был брошен в пекло сражений. «Ограниченно годного» математика с высшим образованием определили ездовым в 74-й Отдельный гужетранспортный батальон, относившийся к Сталинградскому военному округу, – на то время глубокий тыл.
Сараскина подробно рассказывает о том, как из обоза он бомбардировал начальство просьбами о переводе в артиллерию. Но подтверждений этому не приводится. А.В. Островский указывает, что за годы войны Решетовская получила 248 писем от мужа, но не смогла привести ни одной фразы из них, которая бы свидетельствовала, что он из обоза стремился на фронт.
Прокантовавшись с полгода, рядовой необученный обозник получил направление в артиллерийское училище в городе Семенове Горьковской области, но тотчас был переведен в другое – в Костроме. Учеба продолжалась семь месяцев; еще три месяца шло формирование Запасного разведывательного артиллерийского полка, в котором лейтенант Солженицын получил должность командира звуковой разведывательной батареи. На фронт его направили 13 февраля 1943 года, то есть уже после разгрома немецких войск под Сталинградом, когда два первые года войны, с самыми страшными многомиллионными потерями, были на исходе.
Ну а как дальше сложилась военная судьба Солженицына?
Звуковые батареи (их на вооружении было немного) выполняли очень важные функции. Они по звуку засекали огневые точки противника и определяли их координаты, которые передавались боевой артиллерии. Это позволяло вести прицельный огонь по огневым точкам противника и быстро их подавлять. При этом сама звуковая батарея себя не обнаруживала, огонь на себя не вызывала. Ее оборудование и персонал располагались дугой за передней линией огня; командный пункт оборудовался в вершине дуги, в двух-трех километрах от передовой. Солженицын был грамотным офицером, батарея его действовала эффективно, за что он дважды был награжден орденами. Но сам он подвергался гораздо меньшей опасности, чем большинство боевых солдат и офицеров. Он ни разу не был ранен и, кажется, ни разу не входил в прямое соприкосновение с противником.
После того, как в книге «Двести лет вместе» (том II, 2002) он оболгал целый народ, озвучив давние инсинуации агитпропа, будто евреи на фронте отсиживались в штабах, медсанбатах и прочих безопасных местах за спинами русских солдат, проливавших за них кровь, некоторые рецензенты напомнили ему, что его собственный боевой путь как раз проходил в почтенном удалении от передовой. В связи этим Сараскина обрушивается на «злопыхателей», которые будто бы «считали, что двух лет недостаточно, чтобы военного человека настигла предназначенная ему пуля» и в угоду которым «Солженицын... должен был бы стать не офицером артразведки, а солдатом штрафбата, а еще лучше подорваться на мине или смертельно раниться осколком снаряда!» (стр. 234-235). Ничего подобного, разумеется, никакие «злопыхатели» Солженицыну не желали. Только советовали не искать соринку в чужом глазу, когда из своего торчит оглобля.
3.
Одна из интригующих загадок детской биографии Солженицына связана с исключением (кажется, все-таки не состоявшимся) 12-летнего Сани из пионеров за антисемитскую выходку. Понять, что произошло на самом деле, из объяснений Солженицына довольно трудно, а осветляющая его жизненный путь Сараскина еще больше затемняет этот эпизод.
Согласно одной из версий, подозрительной уже потому, что была оприходована Томасом Ржезачем, Саня, поссорившись со своим одноклассником Шуриком Каганом, обозвал его «жидом пархатым», а тот так сильно его толкнул, что Саня упал, ударился лбом об угол парты. От этой травмы остался у него на всю жизнь глубокий шрам на лбу, известный по его многочисленным фотографиям. Вслед за Ржезачем такую же версию изложил Т.П. Самутин, бывший власовец, у которого в 1973 году КГБ изъял экземпляр рукописи «Архипелага ГУЛАГ», после чего напуганный и морально сломленный человек написал порочащие Солженицына «воспоминания».
Солженицын (и Сараскина) появление шрама объясняет иначе. Шурик Каган однажды принес в школу и показал Сане финский нож. Между ними завязалась мальчишеская возня: Саня пытался отнять нож, а Шурик не отдавал. В этой возне Шурик нечаянно уколол Саню в основание пальца, по-видимому, попал в нерв, Саня взвыл от непереносимой боли, потерял сознание и при падении ударился головой о каменный дверной порог. Очнулся в луже крови, с разбитым лбом. Удар оказался настолько сильным, что даже произошла вмятина лобной кости. На дружбу с Шуриком этот случай не повлиял.
Если так, то появление шрама к антисемитизму отношения не имело. Но из пионеров Саню все-таки исключали за антисемитскую выходку. Вот что читаем об этом в книге Сараскиной:
«Зимой 1932 года, когда Саня учился в 6-м классе, случилась перепалка между русским мальчиком Валькой Никольским и еврейским мальчиком Митькой Штительманом (среди сорока учеников их класса русских и евреев было примерно поровну). “Они и дрались и взаимно ругались, крикнул и тот о “кацапской харе”, а я сидел поодаль, но не высказал осуждения, мол “говорить каждый имеет право”, – и вот это было признано моим антисемитизмом и разносили меня на собрании, особенно элоквентный такой мальчик, сын видного адвоката, Миша Люксембург (впоследствии большой специалист по французской компартии). А Шурик Каган во всей той следующей истории был совсем ни при чем”». (стр. 110)
Тут все так сильно осветлено, что погружает нас в кромешную тьму. Если Саня всего лишь сидел поодаль, то какое отношение он мог иметь к ссоре двух других мальчиков? И какое отношение к антисемитизму могла иметь кацапская харя? Где коза и где капуста?
Одно из двух недоумений помогает развеять указание Сараскиной на то, что эпизод исключения описан в романе «В круге первом». Вот этот отрывок:
«Двенадцатилетний Адам [Ройтман] в пионерском галстуке, благородно-оскорбленный, с дрожью в голосе стоял перед общешкольным пионерским собранием и обвинял, и требовал изгнать из юных пионеров и из советской школы – агента классового врага. До него выступали Митька Штительман, Мишка Люксембург, и все они изобличали соученика своего Олега Рождественского в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении, и бросали на подсудимого трясущегося мальчика уничтожающие взоры.
Кончались двадцатые годы, мальчики еще жили политикой, стенгазетами, самоуправлениями, диспутами. Город был южный, евреев было с половину группы. Хотя были мальчики сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, – все себя остервенело-убежденно считали пролетариями. А этот избегал всяких речей о политике, как-то немо подпевал хоровому "Интернационалу", явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты давно подозревали в нем контрреволюционера. Следили за ним, ловили. Происхождения доказать не могли. Но однажды Олег попался, сказал: "Каждый человек имеет право говорить все, что он думает". – "Как – все? – подскочил к нему Штительман. – Вот Никола меня "жидовской мордой" назвал – так и это тоже можно?" Из того и начато было на Олега дело!».
Выходит, в ссоре двух пионеров фигурировала все же не кацапская харя, а жидовская морда, чем значительно сужается пропасть между козой и капустой. Но не настолько, чтобы ее можно было одолеть одним прыжком. Исключать-то следовало сквернослова Николу, но о нем больше ни слова, а в мясорубке оказывается сидевший поодаль Олег Рождественский.
Сцена вызывает и другие недоуменные вопросы.
Майор НКВД Адам Ройтман, в чьих воспоминаниях как бы всплывает эпизод из его пионерского детства, – лицо вымышленное. Олег Рождественский, за которым угадывается автор, тоже персонаж вымышленный. А вот Митька Штительман и Мишка Люксембург названы подлинными именами.
В 1960 годы, когда роман расходился в самиздате в машинописных копиях, М. Люксембург был жив. Григорий Померанц пишет в своих воспоминаниях, что Люксембург прочитал роман у одной своей знакомой, и она следила за его реакцией. «Когда дело дошло до воспоминаний Ройтмана, Люксембург вскочил и сказал, что будь все это во Франции, он подал бы в суд и выиграл процесс о диффамации. Потому что фамилии его и Штительмана настоящие, а сцена выдумана. На самом деле, по его рассказу, все было иначе».[6]
К сожалению, Померанц в своей книге не изложил версию Люксембурга о том эпизоде, заметив, что «подробности этой стычки между мальчишками – их собственное дело». Экстраполировать в таких случаях всегда рискованно, однако некоторые параллели напрашиваются.
Вспомним убийство П.А. Столыпина Дмитрием Богровым, изображенное в другом романе Солженицына, «Август 1914», таким образом, что многие рецензенты сочли его трактовку антисемитской. Писатель на это дал гневный отпор: он-де только не скрыл того, что Богров был евреем, и за одно это «еврейская критика» его обвинила в антисемитизме! Пострадал, стало быть, за простую констатацию факта. Так он реагировал, когда роман только появился, о том же с гневом вспомнил в книге «Двести лет вместе», то же озвучено и в книге Сараскиной:
«Солженицыну – в намерении записать его в антисемиты – привычно ставили в вину, что он посмел заметить национальность убийцы Столыпина Богрова (стр. 877).
Получается, что те, кто до Солженицына писал о Богрове, молчали о его еврейском происхождении, а вот он не утаил, и нате вам! – стал жертвой «еврейского террора».
Мне известна если не вся, то значительная часть литературы об убийстве Столыпина: газетные статьи, написанные по горячим следам, материалы следствия и суда над Богровым, мемуары многих государственных деятелей того времени, воспоминания дочери Столыпина, книга Владимира Богрова – брата убийцы, воспоминания его друзей и недругов, научные работы историков. Не припомню ни одного из этих источников, в котором еврейское происхождение Богрова замалчивалось. Никто, однако, не думал чохом зачислять все эти работы в антисемитские.
В романе Солженицына убийца Столыпина не просто назван евреем. Богров идет на дело, вдохновляемый трехтысячелетней еврейской ненавистью к России и убивает ее Спасителя, чтобы привести ее к гибели. Так об убийстве Столыпина писала черносотенная пресса, одурманенная антисемитскими мифами и активно их раздувавшая. Аналогичные «идеи» Солженицын возродил в романной форме, почему его трактовка и была многими критиками воспринята как антисемитская. Солженицын аргументы этих критиков не оспаривал, но упорно развешивал чернуху, будто его записали в антисемиты только и исключительно потому, что еврей в его романе назван евреем.
При таком ведении спора о романе, широко опубликованном и всем доступном, трудно принять на веру непроверяемое утверждение, будто Саню исключали из пионеров за антисемитскую выходку другого мальчика. Но если и поверить, то нельзя не присоединиться к Григорию Померанцу, заключившему свой комментарий к этому эпизоду следующей фразой: «Не понимаю только одного: как можно было больше 30 лет лелеять месть Люксембургу и вставить подлинные фамилии в вымышленную сцену».
4.
О том, как Солженицын умел мстить не только тем, кто когда-то причинил ему неприятность, но друзьям-товарищам всей его жизни, если они имели неосторожность чем-то ему не потрафить, говорит фрагмент из книги Сараскиной, в котором описываются переживания Александра Исаевича в один из самых трагических моментов, когда врачи сообщили ему о том, что он болен неизлечимой болезнью и жить ему осталось несколько недель.
«В нем происходила сложная духовная работа, о которой десятилетиями спустя он будет вспоминать благодарно и растроганно. А тогда, лежа на больничной койке в палате, он... перебирал свою жизнь, нащупывая и находя в ней элементы вины, греха, падения. Проступков, мелких и крупных, набиралось достаточно; Саня много думал о матери, проникаясь чувством вины перед ней, вспоминал эпизоды, когда вел себя не лучшим образом. Он казнил себя, что допустил – а ведь мог, мог пресечь! – расстрел случайной немки на шоссе в Восточной Пруссии (у нее из сумки выпали фотографии жениха в форме СС). И не остановил Соломина, когда тот, мстя за расстрелянных родителей, увел в лес какого-то пожилого немца и убил его» (стр. 386).
В этом отрывке названо только одно имя – И.М. Соломина, воевавшего под началом Солженицына в звуковой разведывательной батарее. Сержант Соломин был единственным из подчиненных Солженицына, с которым у него сложились неформальные отношения.
В 1944 году, в период затишья в боях, Соломин, по поручению своего командира, отправился в Ростов с поддельной красноармейской книжкой и отпускным свидетельством на имя Натальи Решетовской и, обрядив жену своего командира в военную форму, привез ее в часть, где она пробыла около месяца. В феврале следующего года, когда Солженицына арестовали и офицеры СМЕРШ явились за его вещами, Соломин сумел припрятать часть бумаг своего командира, а позднее передал их Решетовской.
После войны, потеряв всех своих близких, которые остались на оккупированной территории и, как евреи, были уничтожены гитлеровцами, Соломин, по приглашению Решетовской, отправился в Ростов, жил у нее некоторое время, а затем, поступив в вуз, перебрался в общежитие. Вскоре он был арестован за антисоветскую деятельность и осужден на шесть лет (по той же 58-й статье, что и Солженицын). Отбыв срок, Соломин восстановил контакты с бывшим командиром и поддерживал их до его высылки из страны. Солженицын говорил, что прототипом главного героя романа «Раковый корпус» Костоглотова послужил Илья Соломин, хотя сам Соломин отказывался от такой чести (и в самом деле, на нахрапистого Костоглотова он совсем не похож).
В гебистском пасквиле Ржезача была сделана попытка противопоставить «истинного советского патриота» Соломина «изменнику» Солженицыну, но Илья Матвеевич в специальном письме выразил протест против такого противопоставления. Власти этого ему не забыли, и в 1985 году, через сорок лет после победы, когда Соломин обратился с просьбой вернуть ему воинские награды, которых он был лишен при вынесении приговора за «антисоветскую деятельность», ему было отказано.[7] Еще через несколько лет Соломин эмигрировал, поселился в Бостоне и возобновил контакты с Солженицыным. Не прекратились они и после возвращения Солженицына в Россию в 1994 году.
В январе 2005 года меня пригласили в Бостон, где было запланированы встречи с читателями моей книги «Вместе или врозь? Заметки на полях книги А.И. Солженицына “Двести лет вместе”». Перед началом одной из встреч мне сказали, что на ней будет присутствовать И.М. Соломин. Зная о том, насколько близки были его отношения с Солженицыным, я полагал, что моя критика «Двухсот лет» вызовет с его стороны возражения.
Однако в ходе встречи Соломин не выступил, а после ее окончания, когда нас познакомили, он мне сказал:
– Я полностью с вами согласен.
И пригласил к себе для более подробного разговора.
На следующее утро я был у него,[8] и мы вволю поговорили при включенном магнитофоне. Эта беседа нашла отражение во втором издании моей книги (2005), где ей посвящен короткий абзац:
«В январе 2005 г., в Бостоне, я имел возможность встретиться с И.М. Соломиным. Из беседы узнал о его негативном отношении к книге «Двести лет вместе», каковое, по его словам, он высказал и самому автору. Он почти буквально пересказал мне свой телефонный разговор с Солженицыным, но просил его не публиковать».[9]
Теперь, с разрешения И.М. Соломина, привожу этот короткий диалог:
«– Саня, зачем ты написал эту книгу?
– Я хотел помирить два народа.
– Но так их можно только поссорить».
Солженицын не раз писал о Соломине в своих автобиографических произведениях, всегда уважительно, в дружеских тонах, с чувством признательности за услуги, которые тот ему оказывал. Ни прямо, ни косвенно он не обронил ни одного слова о том, что неожиданно всплыло в книге Сараскиной, а в дилогии «Двести лет вместе» засвидетельствовал: «сержант Илья Соломин воевал отлично всю войну насквозь». Имя Соломина многократно появляется и в книге Сараскиной – тоже в самом доброжелательном контексте. Да и процитированный абзац написан в такой тональности, что вроде бы не сержант Соломин осуждается за убийство пожилого немца, а кающийся в грехах командир, который-де мог не допустить этой расправы, но – допустил.
Прочитав данное место в книге Сараскиной, я связался по телефону с Самсоном Кацманом, просил его узнать о состоянии здоровья И.М. Соломина, и, если можно, познакомить его с данным отрывком из книги и узнать о его реакции на подарок, посланный ему бывшим командиром. Кацман записал подробную беседу с Соломиным на магнитофон и затем соединил его со мной по телефону. Я несколько раз спросил Илью Матвеевича, имел ли место тот случай, что изложен в книге Сараскиной, и он твердо и многократно ответил: нет, не было. И добавил, что мстить – вообще не в его характере, а мысль о том, чтобы за гибель своих родных убить совершенно постороннего немца ему никогда не могла бы придти в голову, ибо его близких в Минске уничтожили не немцы, а зондеркоманды, навербованные из местного населения. Об этом Илья Соломин узнал в июле 1944 года, когда побывал в своем родном городе, сразу после освобождения его советскими войсками. Знал об этом и Солженицын, которому Илья Матвеевич тогда же все рассказал с подробностями, которые ему удалось узнать.
Прослушав пересланную мне магнитозапись и поговорив с Соломиным, я понял, что всю сцену «предсмертного покаяния», как она описана Сараскиной, он считает насквозь фальшивой и лживой. О том, что советские войска творили на германской территории и чему и он сам, и Солженицын были свидетелями, Соломин рассказал подробно и откровенно. Бывало всякое – и мародерство, и изнасилования, и поджоги, и кураж над беззащитными и смертельно перепуганными немчиками, и убийства. Таков был настрой у победоносной армии, насмотревшейся на то, что творили нацисты на советской земле. Высшее командование благосклонно относилось к пьяному разгулу и мародерству победителей; остановить бесчинства никому не было под силу. Если бы капитан Солженицын и попытался кого-то урезонить, то только продемонстрировал бы полное бессилие. Более того, в частных разговорах с Соломиным он с возмущением говорил о том, что творилось на их глазах, но повлиять на происходящие они не были в силах. Так что каяться в ожидании близкой смерти ему следовало за свои собственные грехи, а не за то, что он якобы кого-то другого «не остановил».
Зачем же понадобилось Солженицыну развешивать такую чернуху?
На этот вопрос Соломин ответил:
– Это его такая манера – самоутверждаться за счет других.
А что побудило Сараскину озвучивать клевету на совершенно ей не знакомого человека, к которому, впрочем, она обращалась через родственницу Солженицына Веронику Штейн (Туркину), чтобы уточнить некоторые детали ареста Солженицына. А вот для того, чтобы запятнать мнимым злодеянием доблестного солдата, «отлично провоевавшего всю войну насквозь», ей не потребовалось никаких «уточнений». Такова еще одна шутка, какую сыграл с биографом метод осветления главного героя повествования, чья фигура задвигает в густую, порой зловеще черную тень других персонажей.
5.
Есть в биографии Солженицына пятно, которое никакому биографу обойти невозможно. Вскоре после того, как он был осужден на восемь лет и попал в лагерь на Калужской Заставе, лагерный «кум» стал вербовать его в сексоты. Убоявшись отправки на дальний этап, Солженицын дал согласие, подписал соответствующую бумагу и получил агентурное имя, под которым надлежало ему писать доносы, – «Ветров».
Солженицын описал вербовку во втором томе «Архипелага ГУЛАГ». Там же он пишет, что именем «Ветров» ни разу не воспользовался, ни одного доноса не написал. Как ему это удалось, понять трудно, но если бы доносы «Ветрова» существовали, КГБ не упустил бы их опубликовать. Фактически же был опубликован только один «донос Ветрова» (якобы сообщавший о готовящемся бунте заключенных в Экибастузском лагере в январе 1952 года), но это заведомая фальшивка.
Солженицын уверял, как вслед за ним уверяет и Сараскина, что откровенно поведал о своем падении, так как не желал скрывать свои слабости и пороки. Этим он отчасти нейтрализовал естественное возмущение, ибо повинную голову меч не сечет. В книге Сараскиной его падение превращено даже в особую доблесть:
«Он стал свободен от “Ветрова”, потому что рассказал о нем сам, в годы, когда вербующая организация, продолжала оставаться всесильной, рассказал так, как еще никто тогда не смел говорить (ибо такое даже и слушать было опасно). “Ветров”, извлеченный из секретного сейфа на свет божий, перестанет быть двойником Солженицына и его наваждением: точка слабости станет опорой силы» (стр. 317).
Однако, насколько искренним было его раскаяние? Владимир Войнович полагал, что описание вербовки в «Архипелаге» было хорошо рассчитанным упреждающим шагом, ибо если бы об этом сообщил не он сам, а КГБ, то от репутации несгибаемого борца с коммунизмом могло вообще ничего не остаться. С Войновичем трудно не согласиться, и именно поэтому в книге Сараскиной о таком аспекте «раскаяния» не упоминается.
Есть в этой истории еще один аспект. Он всплыл в письме Солженицыну, написанном Л.З. Копелевым в 1985 году. Оно долго оставалось в секрете и было опубликовано спустя 16 лет, уже после смерти автора, по решению его наследников и наиболее доверенных друзей.
«Особую, личную боль причинило мне признание о “Ветрове”. В лагерях и на шарашке я привык, что друзья, которых вербовал кум, немедленно рассказывали мне об этом. Мой такой рассказ ты даже использовал в «Круге». А ты скрывал от Мити [Панина] и от меня, скрывал еще годы спустя. Разумеется, я возражал тем, кто вслед за Якубовичем утверждал, что значит ты и впрямь выполнял «ветровские» функции, иначе не попал бы из лагеря в шарашку. Но я с болью осознал, что наша дружба всегда была односторонней, что ты вообще никому не был другом, ни Мите, ни мне».[10]
Солженицын на письмо не ответил. И только через двадцать с лишнем лет после его получения заметил мимоходом, чревовещая через Сараскину, что Копелеву и Панину о своем «ветровстве» доверительно рассказал.
Что же, Копелев тоже «клеветал» на Александра Исаевича?
Его уже не переспросишь. Панина, увы, тоже давно нет в живых...
6.
У меня нет ни желания, ни необходимости возвращаться к двухтомнику «Двести лет вместе», но не могу пройти мимо того, как в книге Сараскиной преподносится полемика вокруг этого произведения. Об этом надо сказать хотя бы потому, что такой же прием используется и во всех случаях, когда ей поручено «отбрить» в чем-либо несогласных с Александром Исаевичем.
Все положительное, что было сказано о двухтомнике, выпячивается; приводятся длинные цитаты из апологетических рецензий, с непременным указанием имен рецензентов и органов печати, в которых они публиковались. Что же до критических отзывов, то цитат в книге нет, где и когда они появились, не сообщается, авторы имен не имеют, зато щедро наделены уничижительными кличками: потемщики, погромщики, даже воры и продавцы краденого.
Здесь, как и всюду, биограф идет след в след за героем повествования. Статья Солженицына «Потемщики света не ищут», опубликованная одновременно в «Литературной газете» и «Комсомольской правде»,[11] была громовым ответом на критику дилогии, но, как мне приходилось указать тогда же, собственно о критике книги в ней «не сказано почти ничего! Она о другом. В ней с большой страстью опровергаются давно опровергнутые гебистские инсинуации, многократно предаются поруганию давно поруганные имена Ржезача, Виткевича, Арнау, Решетовской, Симоняна, изобличается давно изобличенное сотрудничество этих «компроматчиков» с КГБ... Последняя треть статьи – про то же, что первые две [трети]. Про генерала ГБ Филиппа Бобкова, про бывшего зэка М. Якубовича, оклеветавшего своего друга-солагерника... и про многое другое».[12]
А самому предмету спора – книге «Двести лет вместе» – в статье посвящен один короткий абзац, да и в нем ответ на критику подменен поношением критиков.
Та же линия продолжена Сараскиной. С содержанием критики она читателей не знакомит, самих критиков честит по чем зря, да еще «творчески» переводит стрелку спора с двухтомника на так называемый «Опус-68», опубликованный без ведома Солженицына. Вот отрывок, призванный окончательно посрамить критиков (снова критиков, а не критику):
«Вскоре слово “беспредел” (отсутствие в обществе даже воровских законов и порядков) тоже прозвучало с той стороны [из Израиля] – в связи с бесчестными попытками полемистов поставить Солженицына к стенке за «Опус-68». Черновой, к тому же сильно искаженный чужими вставками фрагмент сочинения о евреях в СССР, датированный 1968 годом, был пиратски опубликован в 2000-м “доброхотом” из тех, кто “опаснее врага”. “Современные и вполне прогрессивные литераторы скопом обсуждают не столько канонические тексты книги о евреях в России, представленный автором на их рассмотрение, сколько выкраденный из его архива и опубликованный вопреки категорическому запрету писателя набросок (согласен – очень интересный), сделанный им тридцать с лишним лет назад. Вот, на мой вкус, истинное неприличие для интеллигентов! – писал в израильском журнале «Новый век» (2003, № 3) Михаил Хейфец, историк и журналист, отсидевший в СССР за свое предисловие к самиздатскому собранию сочинений И. Бродского и эмигрировавший после заключения. – Повторяю, сие действие есть по сути разновидность того “беспредела”, что легально позволял “борцам за перестройку” исхищать доверенную им казенную собственность, распускать клевету про оппонентов, придумывать фальшивые исторические версии... Но в таких играх я заведомо не принимаю участия: это унизило бы меня как профессионала. Архив писателя, как веками было принято, подлежит изучению и анализу лишь после того, как наследники передают его бумаги в пользование исследователей или общественных организаций. Все прочие считается либо разновидностью кражи – для похитителей, либо перепродажи краденного – для комментаторов... Кто сей простой истины не понимает, тому бесполезно что-либо объяснять». (стр. 881-882)
Цитата из статьи М. Хейфеца – это еще одно осветление, за которым таится тьма. Журнал «Новый век» недолго издавался в Москве и носил подзаголовок «Русско-еврейский журнал» (а никак не Израильский). В нем было место для разных мнений. Статья М. Хейфеца о книге Солженицына опубликована рядом с моей статьей на ту же тему; читателю дана возможность самому судить, чья позиция более обоснована.
Что же до существа гневной «отповеди» потерявшим совесть и стыд «продавцам краденого», которые «скопом» навалились на «Опус-68», то Хейфецу и Сараскиной хорошо известно, что в его статье это не более чем увертка, помогающая уйти от прямого и честного разговора.
«Опус-68» был опубликован в 2000 году неким Анатолием Сидорченко, большим почитателей Солженицына. Это его Сараскина безымянно назвала «доброхотом», который «опаснее врага». Кто опаснее врага, известно: дурак. Он не умеет держать язык за зубами и выбалтывает то, что у умного на уме. Сидорченко оказал своему кумиру медвежью услугу, за что и обруган. Первоначально Александр Исаевич наградил его куда более резкими эпитетами: назвал психованным хулиганом, который «в свою пакостную, желтую книжицу... влепил опус под моим именем». Видите как! Не – мой опус влепил, а чей-то чужой под моим именем. Так он сказал в интервью уважаемой газете.[13]
Казус состоял в том, что во втором томе «Двухсот лет», вышедшем через три года после «Опуса», обнаружились места, текстуально с ним совпадающие. Это не помешало подобострастному интервьюеру поддакнуть, что «Опус» это фальсификация. А спросить Александра Исаевича, как объяснить текстовые совпадения, он не посмел.
Но другие посмели.
Первым это сделал редактор московской газеты «Еврейские новости» Николай Пропирный в Открытом письме Солженицыну. Ответа не было. «Опус» прочитали доктор исторических наук Геннадий Костырченко и журналист Валерий Каджая. Оба пришли к выводу – не скопом, а каждый в отдельности! – что «Двести лет» и «Опус-68» написаны одним и тем же автором. Но я, веря Солженицыну и не будучи еще знакомым с «Опусом-68», оставался скептиком. Получив, наконец, от московских друзей ксерокопию этого сочинения, я провел детальное сопоставление текстов. Результаты изложены в моей статье «Лебедь Белая и шесть пудов еврейского жира», состоящей из двух частей.[14] В первой прослеживаются текстовые совпадения, имеющиеся в этих двух работах, а во второй – то, чем эти два текста отличаются. Если бы Солженицын не развешивал чернуху, а сразу признал, что в книгу Сидорченко попал его давний текст, который он сам не собирался публиковать, то избавил бы меня и моих московских коллег от трудоемкой работы: зачем ломиться в открытые двери?
Но Солженицын двери захлопнул, потому и пришлось искать отмычку. Труды оказались не напрасными, ибо пришлось-таки Александру Исаевичу признать «Опус-68» своим сочинением (черновым, искаженным, но – своим!), а свое отречение от него – лживым. То, что он, не переведя дыхания, тотчас обрушился на «потемщиков» с обвинениями в перепродаже краденного, только еще раз показало, что он наделен потрясающими бойцовскими качествами, -- не больше. Он сам отказался от выкраденной у него собственности, «потемщики» ему ее вернули, и он же их обвинил в ее перепродаже! М. Хейфец до такого диалектического фортеля вряд ли додумался бы, он просто позаимствовал его у Солженицына, но в таком заимствовании ни Сараскина, ни сам Александр Исаевич ни кражи, ни перепродажи не усмотрели. Громы и молнии мечутся все в тех же «потемщиков», которые посмели не обойти молчанием «черновой, к тому же сильно искореженный чужими вставками фрагмент сочинения о евреях в СССР, датированный 1968 годом». (стр. 881)
Читала ли сама Сараскина «Опус-68»? В заключении там написано:
«Эта работа по своему языковому строю и по окончательности формулировок и сейчас, конечно, еще не вполне завершена. Я положу ее на долгие годы. Надеюсь перед выходом в свет еще поработать. Если же не судьба мне к ней прикоснуться до той минуты, когда приспеет ей пора – я прошу ее напечатать в этом виде и считать мои взгляды на сей вопрос именно такими».[15]
Так что это не фрагмент без начала и конца, а четко выстроенное произведение, отражавшее взгляды автора на евреев России, по крайней мере, на момент написания. Черновым такой текст можно считать лишь в той степени, в какой любая подготовленная, но не отправленная в печать работа является черновой, ибо в нее еще может быть внесена правка. «Доброхот» Сидорченко подвел автора тем, что буквально выполнил его недвусмысленно заявленную волю, но сделал это преждевременно, не подозревая, что писатель через 30 с лишнем лет вернулся к «сему вопросу», дабы превратить 72-страничный «опус» в 1100-страничный фолиант.
Утверждение М. Хейфеца, повторенное Сараскиной, будто «современные и вполне прогрессивные литераторы» (сарказм понятен) уделили «Опусу-68» больше внимания, нежели «каноническим текстам книги о евреях в России», – это еще одна примитивная ложь. Геннадий Костырченко написал обстоятельную рецензию на двухтомник Солженицына, совершенно не касаясь «Опуса»; Валерий Каджая – большую книгу; в первом издании моей книги (2003) об «Опусе-68» не упоминается, а во втором издании (2005) статья о нем дана в приложении к основному тексту и занимает 45 страниц из 700. Причем, приложение посвящено не «Опусу-68» как таковому, а его сопоставлению с «каноническим» текстом двухтомника.
М. Хейфец и Сараскина все это знают, но намеренно приписывают «потемщикам» то, что делают сами, то есть шумовыми эффектами вокруг «Опус-68» подменяют разговор о двухтомнике «Двести лет вместе».
Если Л. Сараскина придает такое значение «Опусу», то ей, как биографу Солженицына, следовало бы поведать о том, как и когда он создавался. В самом «Опусе» указано, что первая редакция была завершена в 1965 году, вторая в 1968-м. В эти годы Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ», работал над другими произведениями, о чем в книге Сараскиной рассказано с большими подробностями: где именно и когда он писал те или иные части, как Наталья Решетовская ему помогала перепечатывать рукописи, кто еще помогал, и чем именно, кто хранил, прятал и перепрятывал экземпляры. А вот о том, что в то же самое время он сочинял «опус» под названием «Евреи в СССР и будущей России»; о том, как он скрывал эту работу не только от КГБ, но от своих самых надежных и доверенных помощников и даже от жены,[16] в книге нет ни слова, словно герой книги и не прикасался к этой теме в указанный период времени. «Опус» всплывает только когда повествование доводится до 2003 года и требуется дать «последний и решительны бой» «потемщикам». Но и тут остается неясным: в чем же состояли искажения черновой рукописи, которую Солженицын признал-таки своей.
Я привел лишь несколько примеров осветления Сараскиной жизни, деятельности, личных качеств героя ее повествования, но в таком духе выдержана вся книга, читать ее – что идти по минному полю. Ибо бурную, наполненную страстями, отмеченную великими достижениями и грандиозными неудачами, взлетами и падениями жизнь своего героя она превратила в сплошную Потемкинскую деревню.
7.
Перу Солженицына принадлежит множество произведений самого разного жанра, но преимущественно он тяготел к крупной эпической форме.
Первое эпическое произведение принесло ему колоссальный личный успех, и более того – оно способствовало изменению хода мировой истории. Под этой великой эпопеей я понимаю не только трехтомный «Архипелаг ГУЛАГ», но и примыкающие к нему произведения – от «Одного дня Ивана Денисовича» до «Ракового корпуса» и «В круге первом». Благодаря этим творениям Западный мир стал понимать всю бесчеловечность режима, господствовавшего за Железным Занавесом, что помогло ему избавиться от многих иллюзий. А в самом Советском Союзе люди не только лучше осознали чудовищность произвола, которому они подвергались, но и увидели свет в конце тоннеля, получив наглядный пример того, что произволу можно противостоять, и путь к этому – гласность.
Конечно, литературные произведения Солженицына не могли бы появиться без поддержки со стороны правозащитного движения и растущего нонконформизма интеллигенции. А, с другой стороны, само правозащитное движение и нонконформизм питались и вдохновлялись произведениями Солженицына. Благодаря этому симбиозу советский тоталитаризм утратил уверенность в себе, ушел в глухую оборону и, в конечном счете, признал свое поражение, что привело к необратимым преобразованиям в стране и в мире. Выдающаяся роль эпопеи Солженицына не может быть переоценена, ибо его произведения стали одним из самых мощных детонаторов этой цепной реакции.
Вторая, еще более масштабная эпопея, о русской революции, которую он задумал в ранней молодости и создавал с маниакальный упорством в течение многих десятилетий, стала катастрофическим творческим провалом писателя. Он не смог совладать с лавиной исторического материала, который не укладывался в рамки тех идей, какие он хотел выразить. Что это были за идеи? Сам Солженицын избегал четко формулировать свои историко-философские концепции, но в доверительных беседах с некоторыми особо близкими ему людьми высказывался достаточно откровенно. Вот как подытожил ряд бесед с ним священник Русской Зарубежной Церкви Александр Шмеман:
«Его мировоззрение, идеология сводятся, в сущности, к двум-трем до ужаса простым убеждениям, в центре которых как самоочевидное средоточие стоит Россия. Россия есть некая соборная личность, некое живое целое ("весь герой моих романов - Россия…"). У нее было свое "выражение", с которого ее сбил Петр Великий. Существует некий "русский дух", неизменный и лучше всего воплощенный в старообрядчестве. Насколько можно понять, дух этот определен в равной мере неким постоянным, прямым общением с природой (в отличие от западного, технического овладевания ею) и христианством. Тут больше толстовства, чем славянофильства, ибо никакой "миссии", никакого особого "призвания" у России нет - кроме того разве, чтобы быть собой (это может быть уроком Западу, стремящемуся к "росту", развитию и технике). Есть, следовательно, идеальная Россия, которой все русские призваны служить… "Да тихое и безмолвное житие поживем". По отношению к этой идеальной России уже сам интерес к "другому" - к Западу, например, - является соблазном. Это не нужно, это "роскошь". Каждый народ ("нация") живет в себе, не вмешиваясь в дела и "призвания" других народов. Таким образом, Запад России дать ничего не может, к тому же сам глубоко болен. Но, главное, чужд, чужд безнадежно, онтологически. Россия, далее, смертельно ранена марксизмом-большевизмом. Это ее расплата за интерес к Западу и утерю "русского духа". Ее исцеление в возвращении к двум китам "русского духа" - к природе как "среде" и к христианству, понимаемому как основа личной и общественной нравственности ("раскаяние и самоограничение"). На пути этого исцеления главное препятствие - "образованщина", то есть интеллигенция антиприродная и антирусская по самой своей природе, ибо порабощенная Западу и, что еще хуже, "еврейству". Наконец, роль его - Солженицына - восстановить правду о России, раскрыть ее самой России и тем самым вернуть Россию на ее изначальный путь. Отсюда напряженная борьба с двумя кровными врагами России - марксизмом (квинтэссенция Запада) и "образованщиной". Отсюда "дихотомия" Солженицына: "органичность" против всякого "распада", а также против техники и технологии. Не столько "добро" и "зло", сколько "здоровое" и "больное", "простое" и "сложное" и т.д. Петербургская Россия плоха своей сложностью, утонченностью, отрывом от "природы" и "народа"».[17]
Вот такая супер-утопия, запредельно далекая от реальной жизни, реальной России, реального бытия человека на Земле.
Вполне понятно, что чем глубже Солженицын погружался в конкретный исторический материал, тем сильнее испытывал его сопротивление, ибо русская революция, то есть ее истоки, движущие силы и последствия, были совсем не такими, какими он хотел их видеть и пытался изобразить. «Красное колесо» не могло не забуксовать, а, забуксовав, все глубже погружалось в трясину.
Третью эпопею Солженицын хотел сделать из собственной жизни, и здесь его тоже подстерегали роковые неудачи – по сходным причинам. Личность автора, какой она вырисовывалась из его автобиографических произведений («Бодался теленок с дубом» «Попало зернышко промеж двух жерновов» и других) оказывалась совсем не такой, каким он представлялся самому себе и каким хотел остаться в памяти потомков. То же относится к книге Сараскиной, написанной под его бдительным присмотром.
Он хотел выглядеть мудрым, мягким, бесстрашно правдивым, беспощадно требовательным к себе, но терпимым, снисходительным к слабостям других. А был чудовищно эгоцентричен, замкнут на собственном величии, нетерпим к любому несогласию. Уверенный в том, что выполняет великую миссию, он принимал как должное бескорыстные услуги, жертвенное служение себе и своим интересам, и мог спокойно переступить через человека, когда тот становился ему не нужен. Он был лишен способности видеть себя чужими глазами, оценивать свои поступки со стороны. Он хотел, чтобы другие смотрели на него его собственными глазами и потому перессорился почти со всеми, кто осмелился о нем писать без подобострастия, не согласовав с ним каждое слово.
Лев Николаевич Толстой как-то заметил: «Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель — то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь».
Солженицына часто сравнивают с Толстым, и отчасти такое сопоставление оправдано: числители у них одного порядка. Но какая разница в знаменателях! Толстой тяготился своей известностью и мучился своими несовершенствами, тогда как Солженицын упивался своим величием.
8.
Книга Александра Островского «Солженицын: прощание с мифом», вышедшая четырьмя годами раньше книги Сараскиной, – представляет собой антипод ее осветляющей биографии. Создавалась она в несравненно более трудных условиях. Автор не имел доступа к личному архиву Александра Исаевича, не мог задавать вопросы ему и его близким. Зато он тщательно проштудировал все написанное Солженицыным, нашел множество мелких и крупных противоречий в том, что он писал о себе и своей работе. Еще больше несоответствий обнаружено им при сопоставлении мемуарных текстов Солженицына со свидетельствами других участников событий, с опубликованными документами. Все несоответствия им тщательно проанализированы. На каждую цитату, факт, документ дается точная ссылка (чем, заметим в скобках, Сараскина себя не утруждает). Из 730 страниц книги ссылки на источники занимают 150 страниц. Автор потратил на эту работу 12 лет (1991-2003). Объясняя свой замысел и мотивы, А. Островский пишет:
«И для меня, и для многих моих современников голос А.И. Солженицына долгое время звучал как голос правды, а он сам представал в образе бесстрашного, бескомпромиссного ратоборца, отважившегося вступить в открытое сражение с той тоталитарной системой, покорными или непокорными, все равно винтиками которой мы были.
И вот рухнули запреты.
Книги А.И. Солженицына стали доступны каждому. Помню, с каким трепетом я открывал приобретенное на одном из книжных развалов “Малое собрание” его сочинений в семи томах. И не могу забыть того разочарования, с которым закрывал этот семитомник.
Дело было не в литературных достоинствах тех произведений, с большинством из которых я познакомился впервые. С их страниц со мной говорил совсем не тот человек, каким до этого я представлял их автора.
Возникло желание разобраться.
Так появилась эта книга».[18]
Скрупулезность работы А. Островского поражает. Написанная сухо и академично, его книга осталась почти не замеченной, но ей суждена долгая жизнь. К ней будут обращаться, пока не иссякнет интерес к личности Солженицына, а этого не произойдет до тех пор, пока будет существовать русская культура, ибо Солженицын, со всеми его прозрениями и заблуждениями –– органичная часть российского самосознания.
С этим, однако, А. Островский не может смириться. Вместе с пеной он выплескивает и ребенка. Прощаясь с мифом о Солженицыне, он создает антимиф. Из могучего титана Солженицын у него превращен в ничто, хуже того – в сугубо отрицательную величину.
Такова реакция на мифы, которые создавал о себе Солженицын и которые, в наиболее полном и систематизированном виде заново озвучены Сараскиной.
Реакция вполне логичная, ибо как аукнется, так и откликнется. Действие равно противодействию.
В свое время, в ответ на гебистские инсинуации, Солженицын написал памфлет под выразительным названием «Сквозь чад». Недобросовестные нападки лишь укрепили его имидж непреклонного борца с ложью и бессильной злобой коммунизма. Фимиам, который курит ему Сараскина, производит обратный эффект.
Искусственное осветление облика, поступков и произведений писателя – это лишь обратная сторона очернения. Тому и другому может противостоять только правда. Сейчас, когда Солженицына уже нет на нашей грешной земле, пришло время утихомириться тем, кто несет его имя как знамя или как пугало. Пора вглядеться в истинное лицо этого крупного писателя и многосложного человека, чтобы увидеть его сквозь чад и сквозь фимиам.
Примечания
[1] См. А. Солженицын. «...Колеблет мой треножник», «Новый мир», 1991. № 5
[2] «Синтаксис», № 14, 1985.
[3]«Литературная Россия», 1989, № 36.
[4] Кремлевский самосуд, Секретные материалы Политбюро о писателе Солженицыне, М. «Родин» 1994, стр. 49.
[5] Александр Островский. Солженицын: прощание с мифом, М., «Яуза», 2004, стр. 29-30
[6]Г. Померанц. Записки гадкого утенка, М., Росспэн, 2003, с. 229
[7] Еще через 20 лет, в связи с 60-летием победы, по просьбе друзей И.М. Соломина, предоставившим мне необходимые документы, я обратился к президенту России В.В. Путина с просьбой решить положительно вопрос о возвращении наград Соломину и через некоторое время получил ответ из российского посольства в Вашингтоне, что вопрос рассматривается и будет скоро решен. С тех пор прошло три года, но решения нет и поныне. Награды ветерану до сих пор не возвращены.
[8] Выражаю сердечную благодарность Самсону Кацману, организовавшему встречи в Бостоне. В условиях снежного шторма, парализовавшего всю транспортную систему города, часть запланированных встреч пришлось отменить, но, благодаря его энергии некоторые состоялись. К счастью, у него был чудесный автомобиль: маленькая «Хонда» с приводом на четыре колеса. Она преодолевала любые сугробы и свободно ездила по совершенно пустым улицам заваленного снегом города. Вместе с Самсоном мы приехали к И.М. Соломину.
[9] С. Резник. Вместе или Врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии Солженицына, М., «Захаров», 2005, стр. 611.
[10] «Синтаксис», № 37, Париж, 2001, стр. 89.
[11] 2003, 24 октября.
[12] С. Резник. Солженицынская трагедия. «Вестник», № 23(334) 12 ноября 2003.
[13] Московские новости. 19-25 июня 2001 г, №. 25.
[14] «Вестник», 2003, №№11(322)-12(323). Статья также вошла в мою книгу «Вместе или врозь?», М., «Захаров», 2005, стр. 641-685.
[15] А. Солженицын. Евреи в СССР и будущей России. В кн. А. Сидорченко. Soli Deo Gloria!, М., «Печатный двор», 2000, стр. 74.
[16] Незадолго до смерти Наталья Решетовская сообщила, что впервые узнала об этой работе своего бывшего мужа только в 1990 году, когда случайно обнаружила ее в одной частной библиотеке. Она выкупила рукопись и затем сдала в закрытый фонд архива Пушкинского Дома. Оттуда, вероятно, и произошла утечка.
[17] Шмеман А., прот. Дневники. 1973-1983 / Сост., подгот. текста У.С. Шмеман, Н.А. Струве, Е.Ю. Дорман; предисл. С.А. Шмеман; примеч. Е.Ю. Дорман. -- М.: Русский путь, 2005.- 720с., стр. 183-184.
[18] Александр Островский. Солженицын: Прощание с мифом, М., «Яуза», 2004, стр. 5-6.


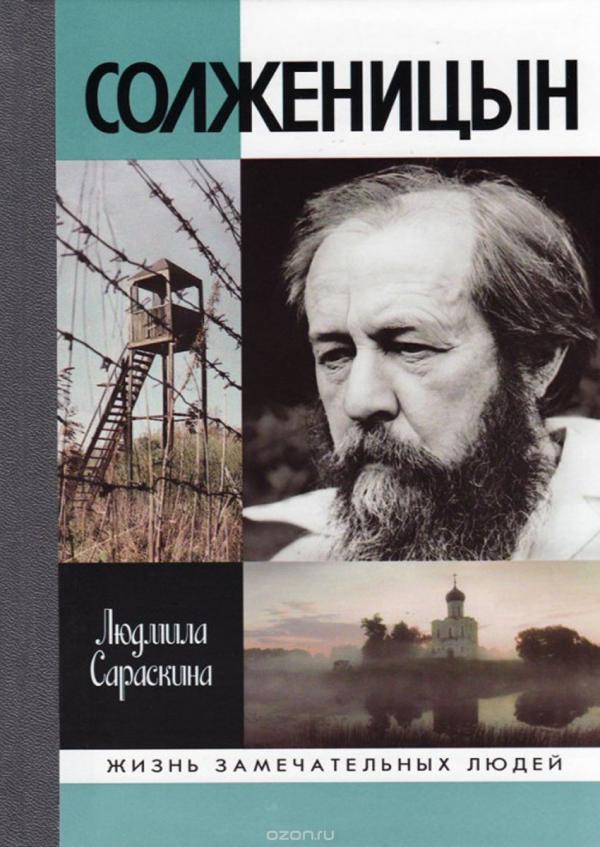




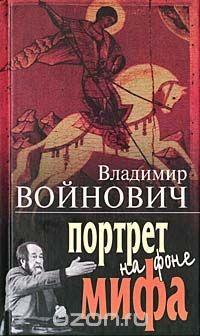
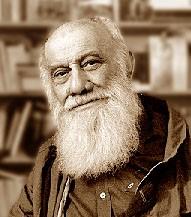

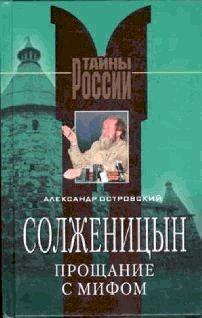


Комментарии
Солженицын «осветляемый» и этим светом «осеняемый»
Замечательная и по-прежнему современная статья уважаемого Семёна Резника, подробно и с фактами в руках разбирающая и очередное издание «Евангелия от Александра Исаевича» (или Исааковича?), и жизнь, сочинения и принципы самого А.И.
Сразу же отмечу, что роль Солженицына в свержении колоссального советского монстра велика и неоспорима. Он, наряду со многими другими и очевидно, эффективнее многих раскачал дьявольский корабль «социализма». А вот его идеи и «наставления» о том, как «обустроить Россию», да и все его мировозрение никогда не выражали ничего нового или прогрессивного: та же замшелая проповедь «особой роли и особой стати», то же тяготение к «простому и природному» (поневоле вспомнишь классическое «Инда взопрели озимые»), те же нападки на евреев.
Тысячекратно упоминались упреки А.И. евреям в том, что в штабах и госпиталях их доля была выше, чем в окопах. Однако и сам комбат Солженицын находился всю войну вдали от передовой. И это было правильно - специалисты по планированию военных операций, хирурги и «звуковые комбаты» не должны сидеть с трёхлинейкой в окопе. Казалось бы, писатель с претензией на роль «властителя дум» должен бы это понимать...
Впрочем, не думаю, что из какого бы то ни было писателя может выйти государственный деятель. Вот обратное - возможно. А эти указания А.И. своему биографу на «осветление» собственной личности и ее высоких стремлений в лучшем случае отдают столь ненавидимым им соцреализмом.
Интересны и новые (для меня) факты из жизни А.И. Чего стоило ему походатайствовать (после падения СССР) о возвращении наград своему сослуживцу и, можно сказать, другу Соломину (если А.И. вообще признавал понятие дружбы), «достойно воевавшему» и сверх того оказавшему в годы войны «звуковому комбату» довольно опасные личные услуги?
Не тянет А.И, , даже и «осветлённый», на житие святых. На ЖЗЛ - возможно.
Солженицын
Сколько ни написано уже на эту тему, в том числе и самим Резником, а все равно прочитывается с захватывающим интересом и на одном дыхании. Хотел бы только добавить кое-что в отношении армейской службы А.И. В общем, эти звуковые батареи себя не оправдали, а служба в них была чем-то вроде богадельни. И если воспользоваться лагерной терминологией, служившие там тоже были своего рода придурками. А еще одну услугу, о которой Вы, Семен, не упоминаете, Соломин оказал Солженицыну, когда вывез к своим всю материальную часть батареи, брошенную на него его командиром, за что тому грозил военный трибунал. Это было в конце войны, кажется где-то в районе Восточной Пруссии, о чем пишет Б.Сарнов в своей книге "Феномен Солженицына"
Добавить комментарий