В июне 1941 года семилетней девочкой я выдержала экзамен по фортепиано и поступила в первый класс музыкальной школы-десятилетки при ленинградской государственной консерватории. Началась война, школа и консерватория были эвакуированы в Ташкент, и моя жизнь навсегда связалась с этими двумя музыкальными организмами. Окончив консерваторию, я стала преподавать фортепиано в школе-десятилетке, затем в консерватории, в которой проработала 30 лет. Помимо фортепианной педагогики, меня всегда интересовала история музыкального исполнительства. Я писала о петербургских (ленинградских) пианистах, дирижерах (Seagull №№ 2,5, 2003), скрипачах, певцах. Предлагаемый вниманию читателей очерк посвящен замечательному ленинградскому пианисту, ныне профессору фортепиано крупнейшего калифорнийского университета UCLA Виталию Маргулису.
Старик Моргулис на бульваре
Нам пел Бетховена...
О. Мандельштам
Ночью в моей нью-йоркской квартире раздался телефонный звонок. Голос звучал взволнованно и счастливо:
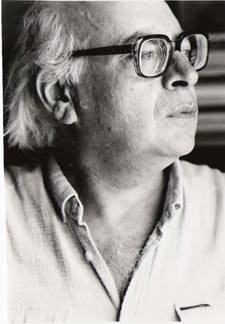 |
|
|
|---|
— Я сыграл сейчас свой лучший в жизни концерт.
— А что ты играл?
— Опус сто одиннадцать Бетховена. Когда закончил, была такая тишина! Мне сказали, что многие в зале плакали...
— А ты что чувствовал?
— Я не сразу пришел в себя. Думал, что умираю. Ведь у меня договор с Богом, что я уйду из жизни во время очень удачного концерта.
— А как тебе удалось заключить такой договор?!
— Ну... Договор, вообще-то, односторонний. Только одна подпись...
В этом диалоге — весь Маргулис. Его страстная любовь к сцене и профессии, его спокойное восприятие смерти как естественного продолжения жизни, его редкая способность украсить обыденность неожиданной шуткой. А сто одиннадцатый опус — это последняя (№32) соната Бетховена, в которой сосредоточены мысли композитора о жизни, смерти и бессмертии человеческой души. Великое творение, изучению которого Виталий Маргулис посвятил почти четверть века...
В его судьбе было многое: борьба, любовь, творческие взлеты и кризисы, надежды и разочарования. Но никогда, ни разу не видела я его в унынии и бездеятельности. А знакомы мы более пятидесяти лет!
Его музыкальной родословной можно позавидовать. Отец, Иосиф Маргулис, талантливый пианист и импровизатор, был учеником дяди легендарного Владимира Горовица, Александра Горовица, который, в свою очередь, обучался у Скрябина!
В тридцатые годы семья Маргулисов жила в Харькове. Время было трудное. Не хватало хлеба, но в квартире всегда стояло два фортепиано. В своей, еще неопубликованной, книге под интригующим названием “Паралипоменон”1 (одна из глав библии, в русском издании переведенная как “Летопись”) Виталий с юмором рассказывает о своем детстве. Он спал на крышке одного из роялей. Бывало, что среди ночи отца посещало вдохновение, и он начинал играть. Ребенок сквозь сон слышал музыку, а утром подбирал по слуху то, что звучало в голове: мелодии Шопена, Чайковского, Шумана. В пять лет началось систематическое обучение. Отец был очень строг, заставлял малыша много заниматься, а порой даже поколачивал. Метод, скажем прямо, не новый, но плодотворный во все времена. По воспоминаниям современников, им пользовались отец Вольфганга Моцарта и отец Никколо Паганини, а во время первых уроков Эмиля Гилельса на стуле рядом с роялем лежал ремень...
Когда Виталий подрос, мать отвела его в харьковский Дворец пионеров, и у мальчика началось как бы “раздвоение сознания”. Педагог музыки во Дворце пионеров задавал “Бирюльки” Майкапара, а отец разучивал с ним Этюды Скрябина и “Лунную сонату” Бетховена. “Как это ни странно, я выучил концерт Чайковского без особого труда, — вспоминает пианист, — и играл его с оркестром, когда мне было десять лет. “Бирюльки” же так и остались недоученными, так как музыку нельзя учить без любви.” Интересно, что о том же, вспоминая свое детство и обучение музыке, пишет Марина Цветаева: “Музыку любила. Я только не любила — свою. Для ребенка будущего нет, есть только сейчас (которое для него — всегда). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малюточностью “пьески”.2
Впервые я увидела Виталия, когда мне было девять лет. Шла война. Ленинградская консерватория и школа-десятилетка для музыкально-одаренных детей находились в Ташкенте. Правительство Узбекистана предоставило ленинградцам бывший клуб швейных работников. В распоряжении музыкантов оказалось только четырнадцать классов. Заниматься приходилось круглосуточно. Ночью консерватория принадлежала студентам, днем шли занятия по расписанию, рано утром в клуб приходили дети. Впрочем, все интересы, все разговоры в течение дня были сосредоточены не на музыке, а на еде: вспоминали, кто что ел на завтрак до войны. Сейчас же завтрак (как и обед и ужин) был однообразен — жидкая каша из темной, почти черной муки — затируха, которую красиво именовали “свиная отбивная”, в смысле — отбили у свиньи...
Школьное общежитие — деревянный барак — состояло из двух больших комнат для мальчиков и девочек. В каждой жило человек по сорок. Пианино было одно на всех, каждый мог играть только по 15-20 минут в день.
И вот появился Виталий. Веселый, жизнерадостный, красивый и очень общительный, он сразу привлек внимание детей и взрослых. Он всех поразил невероятной для четырнадцатилетнего подростка целеустремленностью и любовью к музыке. Ежедневно вставал в пять утра и уходил в консерваторию, чтобы успеть поиграть до начала занятий. О его трудолюбии ходили легенды. То он отказывался покинуть на ночь помещение консерватории, то утром его находили на стуле у рояля, крепко спящим и обнимающим клавиатуру. Однажды дети посоветовали ему посушить мокрые сапоги на углях остывающего мангала.3 Утром от сапог осталось лишь несколько гвоздей, но все равно, обмотав ноги портянками, он, еще затемно, ушел заниматься. По-видимому, это и есть призвание, когда игра на любимом инструменте воспринимается как естественный способ существования, как главный смысл жизни.
“Талант — это любовь,” — говорил Лев Толстой. Талант и одержимость музыкой позволили Маргулису стать одним из лучших учеников известного ленинградского музыканта и педагога Самария Савшинского и достойным “музыкальным внуком” Леонида Николаева — учителя Дмитрия Шостаковича, Владимира Софроницкого, Марии Юдиной.
Весной 1944 года коллектив консерватории вернулся в Ленинград. Прекрасное старинное здание на Театральной площади уцелело, но требовало большого ремонта. Заколоченные досками окна не пропускали дневного света, лепные стены концертных залов были пробиты снарядами, крыша протекала. Осуществить ремонт можно было лишь собственными силами, и молодые музыканты — пианисты, скрипачи, певцы — временно превратились в маляров и штукатуров. И хотя не хватало музыкальных инструментов и классов для занятий (на первое время школа-десятилетка разместилась в здании консерватории), все же это был родной дом и родной город. Харьковчанин Маргулис не сомневался, что Ленинград станет родным и для него.
Мое поколение помнит невероятный подъем зимы и весны 1945 года. 9 мая 1945 года стало для всех, переживших эту войну, самым счастливым днем в жизни. В этот день молодежный музыкальный ансамбль консерватории, всю войну выступавший с концертами в госпиталях и воинских частях, дал на Исаакиевской площади свой тысячный (!) по счету концерт. Площадь была переполнена, незнакомые люди обнимались и плакали. Кто-то смеялся, кто-то молился. Все были уверены, что теперь начнется другая, новая и счастливая эпоха.
Увы, это оказалось иллюзией. Много позже мы узнаем, что Сталин еще в конце войны заметил, что люди его страны изменились. Ежедневное соседство со смертью притупило страх. Нужны были новые репрессии. Началась полоса арестов, сначала так называемых “повторников”, т.е. тех, кто уже отсидел в тридцатые годы, затем настала очередь новых жертв. Посыпались постановления ЦК партии по вопросам идеологии и искусства. Они обсуждались не только в художественных вузах, но и в среднем звене — в муз. училищах и спец. школах. Дети знали о судьбах Зощенко и Ахматовой, Прокофьева и Шостаковича не меньше, чем взрослые. У меня были друзья художники, и я как-то попала на такое собрание в Академию художеств. Студентка первого курса задала вопрос: кто же все-таки такой Шостакович — гениальный создатель Седьмой Ленинградской симфонии, автор популярной народной песенки “Фонарики”, или космополит, формалист и враг нашего народа? Через полчаса после собрания ее арестовали. Восемнадцатилетняя девочка получила два года тюрьмы за политическую неблагонадежность.
Не знаю, как относился к событиям тех лет студент консерватории Маргулис. Ведь даже самые близкие друзья не отваживались говорить на эти темы между собой. Думаю, что скорей интуитивно, чем сознательно, он уходил от действительности в работу, в музыку. Ежедневно играл на рояле по шесть-восемь часов, читал, ходил на занятия в консерваторию, посещал лекции в университете, постоянно бывал на концертах в филармонии, обожал знаменитые ленинградские музеи.
Помню, еще школьницей я пошла с ним в Эрмитаж, где бывала и раньше, т.к. росла в интеллигентной ленинградской семье. Я считалась девушкой культурной, способной “блеснуть эрудицией”, но этот поход меня потряс. Маргулис ориентировался в залах Эрмитажа как в собственной квартире и мог прочесть лекцию о любом художнике и любой эпохе. Мы долго топтались около одной картины, на которой не было ничего, кроме сплошного черного пространства. “Ищем ракурс,” — объяснил Виталий. И когда мы ракурс нашли, я вдруг увидела освещенную луной палубу корабля и на ней — две прижавшиеся друг к другу человеческие фигурки. Маргулис произнес:
Когда на глади полотна
Художник ночь изображает,
Хоть луч один он оставляет,
Чтоб эта ночь была видна...4
В увлечении изобразительным искусством сыграли роль семейные традиции Маргулисов. Отец любил живопись, старший брат Константин — интересный, оригинальный художник, ныне живущий в Нью-Йорке, работает до сих пор. Но, думаю, главное — это профессиональный интерес музыканта, ищущего аналогии к красочным возможностям фортепиано в других видах искусства, прежде всего, в творчестве художников.
...В один из июньских дней 1951 года в консерватории, в Малом зале имени Александра Глазунова, собралось много народа. Послушать лучшего студента выпуска пришли и мы, школьники. В программу Виталия входили труднейшие сочинения, жемчужины классического фортепианного репертуара: “Аппассионата” Бетховена, пятиголосная фуга Баха, Соната Листа си минор, Третий концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. Природная эмоциональность и превосходный пианизм позволили исполнителю с первой же ноты захватить слушателей. И даже нам, детям, было ясно, что играет музыкант мощной художественной индивидуальности, для которого на первом плане в музыке — содержательное драматическое начало. Интерпретация знаменитой “Аппассионаты” являла поразительный сплав страсти, блеска, глубокого размышления и воли к упорядоченности. И мы, школьники девятых-десятых классов, думали: вот бы у кого поучиться!
Пустые мечты! Тогда, в начале 50-х, в годы расцвета государственного антисемитизма, Маргулис и думать не мог о работе в Ленинграде, об аспирантуре. На следующий день после исполнения сольной программы Виталий должен был играть “Элегическое трио” Рахманинова для фортепиано, скрипки и виолончели. Мы снова пришли в консерваторию. Однако, в назначенный час исполнители на эстраде не появились. Оказалось, что когда до выхода на сцену оставались считанные минуты, посторонние люди вошли в артистическую и, предъявив ордер на арест, увели виолончелиста Оскара Бурштейна. Фактом ареста никого нельзя было тогда удивить, но чтобы среди бела дня, перед выступлением в консерватории5... Комментируя этот факт, Маргулис мудро заметил: “На месте Оскара мог быть любой из нас. Что же огорчаться, что я не могу остаться в Ленинграде? Ведь меня ждет не тюрьма, не ссылка, а всего лишь какая-то филармония на Урале”.
И он уехал. Началась активная концертная работа в свердловской филармонии, попытки поступить в аспирантуру (восемь раз!) и пробиться на международные конкурсы. После очередной неудачи обычно следовала бессонная ночь, а на следующий день, в шесть утра, пианист, как в далеком детстве, садился за рояль и начинал учить новую программу к новому конкурсу. “Но пораженья от победы ты сам не должен отличать”, — сказал поэт. Эти занятия, возможно, и были самой ценной победой в самой трудной борьбе — с отчаяньем, одиночеством, с самим собой. Но был ли он одинок? В своей книге “Багатели” (мысли и афоризмы пианиста), впервые изданной в Германии, Маргулис писал: “Рояль лучше самого близкого друга способен понять и отозваться на наши самые сокровенные чувства. Умеющий хорошо играть никогда не будет одиноким”.
В конце 50-х годов он вернулся в Ленинград, наконец поступил в аспирантуру и начал преподавать в “альма-матер”. Природа, щедро одарив Маргулиса как исполнителя, не поскупилась и на педагогические способности. Острый ум, склонность к анализу, к постоянным поискам нового в области “музыкального слова”, эрудиция в разнообразных видах искусства в сочетании с большим репертуаром и концертным опытом делали его интереснейшей фигурой среди молодых педагогов вуза. Добавим к этому личное обаяние, чувство юмора, трудолюбие и преданность профессии, и станет ясно, почему на уроках Маргулиса собирались не только ученики его класса, но и студенты других педагогов. Вокруг него всегда царила атмосфера праздника. Воздействие на учеников не ограничивалось занятиями в классе. Виталий постоянно беседует со своими воспитанниками, ходит с ними в музеи, показывает город, который очень любит и знает лучше многих коренных ленинградцев. Знаменитые архитектурные ансамбли и памятники, мосты, сады, решетки — все оживало, когда Маргулис рассказывал о них — весело, увлекательно, влюбленно...
Забегая вперед, скажу, что эта влюбленность в город на Неве сохранилась у Виталия на всю жизнь. Весной 1988 года он, впервые после отъезда из России, приехал в Ленинград. Мы встретились на центральной лестнице Русского Музея, и почти первые его слова были: “Я видел всю красоту мира, дважды был в кругосветном путешествии и, поверь, нет на земле второго такого города как Ленинград!”
Но это будет почти через тридцать лет, а пока, в начале шестидесятых, он учит молодых “хорошо играть”, старается их развить, сделать умнее, горячее, преданнее своему делу. Его класс становится заметным явлением на фортепианном факультете. Ученики отлично играют очень сложные произведения (напимер, “Гольдберговские вариации” И.С.Баха), украшающие репертуар немногих исполнителей. Но время идет, и становится ясно, что студенты класса Маргулиса не имеют никаких творческих перспектив. Причина заключалась и в “пятом пункте” учителя и в его характере. Виталий родился с более живым, свободным и радостным мироощущением, чем это допускалось в советском обществе. Таким людям труднее было мириться с идеологическими установками, пользоваться словесными штампами, “единодушно голосовать” за очередное решение правительства, приспосабливаться и притворяться. Их выдавали манеры, интонации, выражение лица. Они очень раздражали советских чиновников. Маргулиса не любили те, от кого многое зависело: коммунисты фортепианного факультета, члены партийного бюро и “лично” ректор консерватории, народный артист Советского Союза Павел Серебряков.
Сегодня имя Серебрякова почти забыто, а в 50-60-е годы прошлого века это был известный пианист, выступавший с лучшими дирижерами в лучших концертных залах мира. Можно было бы объяснить нелюбовь ректора к Маргулису банальным антисемитизмом, но Серебряков не был антисемитом и этим выгодно отличался от многих своих коллег.6 Истоки его неприязни к Маргулису были, на мой взгляд, в многолетнем противостоянии между Серебряковым и учителем Маргулиса профессором Савшинским. Оба музыканта долгое время работали рука об руку7, при этом творчески и психологически были совершенно противоположными натурами. Музыкант аналитического склада, Савшинский принадлежал к типу чистых педагогов (определение Генриха Нейгауза), т.е. никогда не выступал на концертной эстраде, а свой богатый педагогический опыт обобщал в многочисленных книгах о фортепианном искусстве. Серебряков, для которого исполнительство и педагогика были неразделимы, не понимал, как можно воспитывать концертирующего пианиста, не имея собственного эстрадного опыта, только с помощью теоретических рассуждений и книг.
Любопытно, что молодой Маргулис, один из самых преданных учеников Савшинского, и профессионально и человечески имел немало общего именно с Серебряковым. Оба принадлежали к романтическому типу исполнителей. Оба были виртуозы с крупным пианистическим дарованием. Оба адресовали свое эмоционально открытое искусство широкой массовой аудитории. Совпадали и репертуарные пристрастия — Шопен, Лист, Брамс, Рахманинов. Наконец, оба были людьми страстными, любили жизнь во всех ее проявлениях, были беззаветно преданы музыке и фортепиано. Обоих можно было назвать “трудоголиками”. Но, если Серебряков, крупный номенклатурный работник (ректор, член партийного бюро вуза, член районного комитета партии) и гастролирующий по всему свету пианист, обязан был с раннего утра до поздней ночи распределять свой день с хронометрической точностью, то Маргулис, закончив трудиться, принадлежал себе. В распоряжении Виталия были прогулки по вечернему городу, беседы с друзьями, книги, концерты, музеи и одиночество, необходимое художнику для раздумий о жизни, искусстве, себе самом.
В отличие от Маргулиса, не интересовавшегося ректором ни как личностью, ни профессионально, Серебряков хорошо знал Виталия со студенческой скамьи, следил за его жизнью, полной мучительной борьбы и трудных достижений. Он ходил на консерваторские концерты Маргулиса, и его случайно оброненные реплики, вопросы, иронические словечки позволяли думать, что маститый профессор и прославленный артист испытывает к никому неизвестному молодому преподавателю странное чувство зависти. Казалось, глядя на непоколебимую внутреннюю свободу Маргулиса, Серебряков спрашивал себя: а не упустил ли я что-то в собственной жизни, пройдя по ней так прямо и твердо — по-коммунистически? Каждый из них шел своим путем, но профессиональная судьба Виталия во многом зависела от отношения ректора вуза. Маргулис никогда не выезжает с гастролями за рубеж. В Союзе концертирует, в основном, на периферии. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) постоянно отказывает ему в присвоении звания доцента. Его статьи о фортепианном искусстве не публикуются.
Будем справедливы к Серебрякову. Если решение тех или иных инстанций о выезде музыканта за границу зависело от характеристики руководства учреждения, то возможность публикации в советской периодике определялась идеологической направленностью предлагаемого материала и надежностью мировоззрения автора. Маргулиса интересовало духовное содержание музыки Баха и Бетховена. (Позднее, в Германии он опубликует имевший широкий резонанс труд “Хорошо темперированный клавир Баха и визуальная церковная символика”.) Стремление музыканта донести до читателя оригинальные мысли о религиозно-философских взглядах немецких классиков напоминало попытки булгаковского Мастера издать в советской печати роман об Иисусе Христе. Серебряков тут был не причем. Но вот дать разрешение заниматься на консерваторском органе, что было необходимо пианисту, обратившемуся к творчеству Баха, ректор мог. Но и в этом Маргулису было отказано.
В 37 лет у Виталия случился инфаркт. Для любого человека это серьезное испытание, меняющее ритм и уклад всей жизни. Для концертирующего артиста — почти трагедия. Маргулис сумел превратить это событие в удачу. Спустя много лет он говорил: “Раньше я суетился, бросался от программы к программе, от конкурса к конкурсу. После инфаркта стал больше думать, больше читать. Обратился к Гете, Новалису, Шиллеру. Увлекся идеями буддизма и христианства. Начал писать исследование о последней сонате Бетховена...”
В 1974 году Маргулис решил подать документы на выезд. “Дело было не только в отсутствии концертных залов, званий и степеней, — говорил он впоследствии, — дело было в потере веры в будущее, в чувстве полной бесперспективности”.
В то время существовало абсурдное правило — обязательное обсуждение и осуждение “морального облика” уезжающего. Между Виталием и одним из консерваторских профессоров, с энтузиазмом выполнявшим этот бессмысленный ритуал, состоялся такой диалог:
— Вы не боитесь потерять все, чего добились здесь?
— Нет, не боюсь.
— Не боитесь, что друзья осудят вас?
— Не думаю.
— Говорят, что вы очень любите Ленинград. Не боитесь ностальгии?
— Вот этого боюсь. Но если меня начнет мучить ностальгия, я буду вспоминать это собрание и вас...
В Риме он сразу же стал играть на органах многих соборов, даже Собора Святого Петра. Настоятель американской католической церкви в Риме, сняв на собственные деньги зал и арендовав рояль фирмы “Стейнвей”, организовал Виталию концерт. Этот вечер решил его судьбу. В зале находился известный немецкий клавесинист Станислав Хеллер, который немедленно предложил Маргулису поездку в Германию.
Опустим подробности авантюрных переездов через границы без документов. После первого же выступления перед немецкими музыкантами, Маргулису было предложено место профессора фортепиано в одном из лучших музыкальных учебных заведений Европы — Высшей Музыкальной Школе Фрайбурга. Все стало на свои места. Как в старых добрых сказках, превратился он из гадкого утенка в стройного лебедя, из бедного пастуха в прекрасного принца.
Начинаются концерты по всему миру. О его выступлениях пишут как о “событиях выдающегося значения”, называют “одним из самых крупных исполнителей нашего времени”, “пианистом мирового класса”, даже такие выражения как “secret genius” не боятся пускать в ход (Йоахим Кайзер, “Suddeutsche Zeitung”). Парижская “La Disque Ideal” считает его интерпретацию Третьей сонаты Скрябина “подлинным шедевром, превосходящим широко известные записи Горовица и Софроницкого”. Итальянская “Musica” называет его исполнение этюдов Шопена “волнующим и фантастическим”, “новым словом в истории фортепианного искусства”. В рецензии на концерт в Сантандере (Испания) критик пишет: “Три сонаты Бетховена — “Лунная”, “Les Adieux” и Грандиозная op. 111 — по качеству и зрелости исполнения неподражаемы. Его очень индивидуальная интерпретация Бетховена установила недостижимый стандарт”.
Класс Маргулиса быстро становится одним из сильнейших. Десятки его воспитанников получают звание лауреатов международных конкурсов. Он выступает с лекциями и открытыми уроками не только в городах Германии, но и в парижской консерватории, в нью-йоркской Manhattan School of Music, в музыкальном колледже в Осаке, на фестивале в Шлезвит-Гольдштейне... Он записывает диски западно-европейской и русской фортепианной классики.
В 1977 году в Ленинграде умирает Павел Серебряков. Для консерватории начинаются новые времена. Отъезды музыкантов приобретают массовый характер. Консерваторию покидают пианисты (в том числе, автор этих строк), скрипачи, представители других музыкальных профессий. Лучшие из оставшихся — скрипачи Михаил Вайман и Борис Гутников, пианист Александр Ихарев, альтист Юрий Крамаров, музыковед Арнольд Сохор — трагически уходят из жизни в расцвете творческих сил. Музыканты называют ленинградскую консерваторию учреждением трех “у”: уехал, уволен, умер. В конце 80-х, рецензируя концерт Марты Аргерих в консерваторском зале имени Глазунова, критик писал: “Когда исполнив несколько произведений Мессиана, Аргерих перешла к сочинению своего мужа, пианиста и композитора, выпускника московской консерватории Александра Рабиновича, концерт был хамски прерван раздавшимися посреди исполнения аплодисментами, громкой речью и смехом части публики, не то приверженцев общества “Память”, не то в своей реакционности просто одичавшей”.
И все же, традиции петербургской консерватории не умирают. Они продолжаются в деятельности эмигрантов, разбросанных по разным уголкам Европы и Америки. Одним из важных центров, сохраняющих эти высокие традиции, становится созданная Виталием Маргулисом “Русская школа фортепианной игры” во Фрайбурге.
Интенсивная педагогическая деятельность Маргулиса включает в себя и редактирование фортепианной музыки, и публикацию статей и книг по вопросам фортепианного искусства. В этих трудах — жажда познания, влечение к исследованию, сопутствующие пианисту всю его творческую жизнь, стремление вовлечь читателя в размышления об искусстве, природе, людях, добре и зле.
В 1991 году в московском издательстве “Музыка” выходит его книга “Об интерпретации фортепианных произведений Бетховена”. Основанная на анализе “материи и духа” последней бетховенской сонаты № 32 ор. 111, книга поражает размахом и смелостью поставленных в ней пианистических и философских проблем (частично о них уже шла речь). За спокойно-сдержанным тоном повествования лежит огромная исследовательская работа, но это не диссертация, а собственное маргулисовское проникновение в композиторский замысел, в суть музыкальных образов. И именно в этом главная практическая и эстетическая ценность работы.
В 1991 году в Германии вышла и другая книга Виталия, впоследствии переведенная и изданная на шести языках — уже упоминавшиеся “Багатели”. В предисловии к ее последнему изданию Марта Аргерих писала: “Эта захватывающая книга открывает окно в мир музыки, берет нас за руку и ведет в нашу любимую страну — Фортепиано. Виталий Маргулис обладает мудростью и юмором, выдающейся интуицией, знанием природы и духовной сущности человека. Эта книга одинаково заинтересует музыкантов и не музыкантов... Эта книга неотразима”. К такой оценке выдающейся пианистки добавить нечего.
Живя в Европе, Маргулис часто приезжает в Америку. Здесь, по всей стране, в разных колледжах работают его бывшие студенты по ленинградской консерватории. Здесь живут его дочь, внуки, друзья.
В апреле 1990 года я с волнением шла на концерт Виталия в Алис Талли-Холлe нью-йоркского Линкольн-центра. Программа была составлена из произведений Шопена. Я не слышала пианиста шестнадцать лет и еще раз убедилась в благодатном, раскрепощающем творческую личность влиянии среды, которая зовется “свободным миром”. В артисте, если можно так выразиться, стало больше его самого. Первое, что я сразу заметила в интерпретации шопеновской Сонаты си-бемоль-минор — отход от сложившейся традиции исполнения. Замедленный темп (в первой части, особенно), усиленная выразительность каждой интонации, каждого мелодического оборота подчеркивали не столько героико-монументальную, сколько лирико-философскую линию шопеновского творчества. Казалось бы, мир изысканных, хрупких образов не вписывается в круг артистических склонностей Маргулиса — пианиста масштабного, крупного, игра которого всегда отличалась большим и насыщенным звуком. Однако, в интерпретации ноктюрнов и вальсов проявилось иное. Артист играл “вполголоса”, словно открывая слушателю возможности “тихой беседы клавишей”. И что самое главное — игра была абсолютно органична, естественна, лилась подобно человеческой речи. Мне вспомнились мудрые слова Шопена: “последней приходит простота, которая выступает во всем очаровании как высшая печать искусства...”
В 1994 году Маргулис переехал в Америку. Победил в конкурсе на место профессора фортепиано в самом крупном университете Калифорнии — UCLA, в стенах которого работали Яша Хейфец, Арнольд Шенберг, Григорий Пятигорский.
...Мы сидим с Виталием в кабинете его нового дома в Bel-Air. В центре комнаты — два великолепных “Стейнвея”. Очень много книг: по истории, философии, живописи и, конечно, по музыке. С балкона открывается типичный калифорнийский пейзаж: по дороге, окруженной кипарисами и пальмами, мчатся ягуары и мерседесы, а вдали голубые холмы сливаются с океаном. Мы вспоминаем 10-метровую комнатку в коммуналке на улице Декабристов с раскладушкой и старым зубоврачебным креслом в качестве мебели, где прошла студенческая молодость и начиналась самостоятельная жизнь артиста. Он рассказывает о последних выступлениях.
— Записал впервые “Крейслериану” Шумана, предстоит сыграть с оркестром ля-мажорный концерт Моцарта, который раньше не играл. Конечно, немного волнуюсь. Память уже не та.
— Зачем при таком огромном репертуаре учить новые пьесы? — спрашиваю я.
— Знаешь, Сократ в ночь накануне казни попросил своего стражника научить его играть на ручной арфе. “Старик, зачем тебе это, ведь утром тебя казнят”, — сказал стражник. “Когда же еще я найду время для этого?” — ответил Сократ.
Творческий путь Виталия Маргулиса продолжается. Его ученики завоевали более ста призов на международных конкурсах, около тридцати из них — лауреаты первых премий. Записаны диски, выходят книги. А еще есть четверо детей — все музыканты, двенадцать внуков, недавно появились правнуки. Несколько дней назад Маргулис вернулся из поездки по Европе. С большим успехом прошли концерты и мастер-классы в Испании, Германии, Португалии и Италии. С восторгом он рассказывает мне о многочасовых (несмотря на недавнюю операцию ноги) прогулках по Венеции. “А еще в Европе написал новую главу “Паралипоменона” — уже послал в Москву, может успеют вставить в книгу”. Я слушаю и думаю: как азартно, красиво и молодо продолжает жить этот 77-летний музыкант!
- 1. Рукопись “Паралипоменона” находится в московском издательстве “Классика XXI”.
- 2. М. Цветаева “Мать и музыка”. Сочинения в двух томах. Художественная литература, Москва, 1984, т.2 с. 90.
- 3. Мангал — печь, которой пользовались в Средней Азии для обогревания помещения и приготовления пищи.
- 4. Четверостишие испанского драматурга Лопе де Вега.
- 5. Оскар Бурштейн был приговорен к семи годам заключения “за шпионскую деятельность как агент японского империализма”. Реабилитирован после смерти Сталина. Сейчас живет с семьей в Вашингтоне. Мать Оскара, старый петербургский музыкант Берта Яковлевна Бурштейн, была моим первым учителем музыки.
- 6. Показательно, что именно в мрачные 50-е годы Серебряков был отстранен от руководства с формулировкой “засорение кадров вуза”, а в 1961-м, в период “оттепели”, возвращен на пост ректора.
- 7. Когда тридцатилетний Серебряков в 1938 году возглавил консерваторию, Савшинский был директором школы-десятилетки, заведующим кафедрой фортепиано в консерватории, а с 1941 года — деканом фортепианного факультета.




Добавить комментарий