Сейчас, годы спустя, все случившееся в те дни порою кажется вычитанным, услышанным от кого-то... Но это было – на твоих глазах и с долей твоего участия в череде неожиданных, не всегда последовательных событий мая 1991-го.
Время уходит, но не уходят вместе с ним из памяти, а наоборот, видятся значимыми даже мельчайшие обстоятельства, при которых все, что случилось – случилось.
Но и не только в памяти дело... Не всегда чувствуешь себя готовым отвечать на расспросы даже близких, а нередко и вовсе незнакомых тебе людей. Все они участливы, доброжелательны, они бережно сохраняют память о замечательном человеке. И все же...
Потому что, рассказывая, надо возвращаться памятью в ту ночь, когда мы с Ольгой Владимировной сидели у телефона и думали... нет, просто пытались сообразить: кого из друзей мы упустили, кто еще не знает о беде, настигшей ее мужа.
* * *
Начало, казалось, было совершенно замечательное. Застал я их телефонным звонком, когда Булат, Оля и Булат-младший – Буля, оказались в нашем штате: там, в Сан-Франциско, предстояла встреча со съехавшимися со всей Северной Калифорнии бывшими россиянами. Когда-то, порывая, а люди это точно знали, навсегда со страной своего рождения, они везли все же с собой в необратимое, как путь через Стикс, странствие самый драгоценный свой багаж. Этот багаж не по силам было отнять у них вместе с гражданством чиновникам ОВИРов: с ними оставался язык, на котором они учились говорить.
И еще – песни...
Тогда, перед приездом Булата с семьей, в короткой и оставшейся анонимной газетной заметке я, помнится, писал об удивительной смысловой емкости каждой строфы, рождаемой талантом Окуджавы, о совершенно особой афористичности его поэзии. Сейчас я добавил бы: тот, кто может не просто уловить, но принять ее философию, ее глубинный смысл, заключенный в бесконечной любви, даже в обожествлении живого и сущего, тому доступно понимание счастья – быть.
Вот вы берете в руки его сборник, ставите на проигрыватель привезенный с собою диск, остаетесь с ним – ну, хотя бы на полчаса... Замечаете? И потом, может быть, спустя недели, вы слышите вдруг собственный голос, повторяющий строки Окуджавы. Как сейчас: я ударяю пальцами по буковкам, наклеенным поверх латиницы моей клавиатуры, наблюдаю на экране рождение этих абзацев – а из памяти не уходит его
...не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта...
Говоря сегодня о творчестве Окуджавы, обращаясь к его человеческой сущности, постоянно чувствуешь опасность соскользнуть в выспренную фразу, употребить нечто высокопарное, – а ведь делать этого ни в коем случае нельзя, как бы ни тянуло: сам он не просто избегал, но активно не принимал подобных речевых оборотов, особенно в свой адрес. Дома у меня, вспоминаю я сейчас, если в его присутствии кого-то заносило в эту зону (всегда и вполне искренне), Булат либо сразу переводил разговор на другую тему, либо, быстро найдя себе несрочное на самом деле занятие, покидал место беседы, и минутой спустя мы видели его уже в дальнем углу комнаты – у рояля, например, поигрывающим несложные гаммы, нащупывающим новую мелодию...
* * *
Да. В том разговоре я повторил сказанное по телефону неделей раньше, когда они еще были в Вашингтоне и в вечер после выступления гостили у Аксеновых: жду, буду рад, если решат остановиться у меня – хоть сразу по приезде, хоть после выступления. Правильнее было бы сказать – "выступлений", потому что, помимо лос-анджелесской, предстояла отмененная Булатом позже (как принято у наших импресарио объяснять – "по техническим причинам") поездка в Сан-Диего.
Здесь позволю себе цитату из его письма, пришедшего примерно за год до того: "Дорогой Саша... Приехать, к сожалению, не можем, но, надеюсь, как-нибудь выберемся". (Соблазнительно привести и концовку: "...в Переделкино осень. В России бардак. Но не столько по злому умыслу, сколько по недомыслию. Обнимаю тебя от всех нас. Булат".)
А в этот раз почти условились! Правда, еще тогда, у Аксеновых, как бы между прочим, Булат посетовал на недомогание: шалит сердце, особо почувствовалось это здесь, в Штатах, в поездках по стране. Мне запомнилась его интонация – как он с досадой произнес: "Стенокардия замучила".
– Покажемся врачам в Лос-Анджелесе...
Прозвучало у меня это не очень уверенно: я помнил о некоторой дистанции, которую Булат установил между собой и медучреждениями – и старательно хранил ее...
Так и в этот раз.
– Не знаю... В Нью-Йорке сделали кардиограмму, Оля настояла, вроде ничего тревожного. Да и в Бостоне, на обратном пути, хотел посмотреть кардиолог. В общем, ты поговори с Олей, она ведает этими делами...
Словом, мы не в первый раз загадывали: вот, завершится гастроль – и они задержатся в Лос-Анджелесе, безо всяких уже дел и обязательных встреч, просто перевести дух. И задержались – почти на полгода...
* * *
Поставив автомобиль в дальнем углу двора (мы и там-то с немалым трудом нашли место, хотя по протяженности он занимал солидный голливудский квартал), мы шли следом за группой зрителей к зданию самой школы, где готовилось выступление Окуджавы. На самом подходе к ней нас остановил Квирикадзе – кинорежиссер и сценарист, к тому времени автор нескольких оригинальных лент; последняя из них носила название "Путешествие товарища Сталина в Африку", и это вполне говорило само за себя.
Ираклий в Америке оказался именно с этим фильмом, картина имела успех, и настигший его здесь инфаркт никак не был связан с результатами его визита – не вовремя подвело здоровье. Хотя когда это бывает вовремя?.. Ираклию сделали операцию на открытом сердце, и теперь, несколько месяцев спустя, он вдруг запрыгал перед Булатом. Он подпрыгивал и, подобный большой веселой птице, махал руками-крыльями, на лету объясняя, что американская медицина – лучшая в мире и вот он, Ираклий Квирикадзе, после такой операции готов ставить рекорды в любом виде спорта.
* * *
Был концерт. Нет, Окуджава не любил это слово – была встреча его с русским Лос-Анджелесом. Бесконечно трогательное свидание, наполненное непрерывным диалогом зала и исполнителя: когда Булат пел или когда он читал стихи, а зал безмолвствовал – все равно этот диалог не прекращался, и, казалось, насыщенные живым электричеством нити протянулись от сцены к слушателям, они как бы продолжали струны инструмента, который держал в руках Булат. Окуджава ощущал это и, воспринимая реакцию сидящих в зале, произносил слова, которые они помнили и которых ждали от него.
* * *
Кардиограмма оказалась скверная – настолько, что Юрий Бузи (фамилия доктора Бузиашвили здесь, для американских коллег и пациентов, оказалась бы совершенно непроизносима), едва взглянув на длинную полосу бумажной ленты, по которой протянулась прыгающая чернильная линия, предложил – да нет, почти потребовал: немедля сделать катетеризацию сердца. Заглянуть вовнутрь, установить точный диагноз и решать – что делать дальше.
– Как? – с грузинским темпераментом восклицал он, опять и опять рассматривая ленту, – как можно!
Он искренне не понимал, "как можно" было отпускать Булата из Нью-Йорка, где симптомы болезни обострились и впервые дали о себе знать по-настоящему и где врач, наскоро осмотревший его, похлопал весело поэта по плечу и со словами "Все в полном порядке!" дал "добро" на его поездку – дальше, по стране. Нет, не просто поездку – но напряженную работу, протянувшуюся на многие тысячи миль, на меняющиеся временные и климатические пояса, на восемь огромных концертных залов, появление на сцене которых требовало не просто особой собранности выступающего, но свойственной выступлениям Булата полной и самоотверженной отдачи.
* * *
За три или четыре дня до операции – а о том, что в ней будет необходимость, никто из нас тогда не подозревал, – собрались человек тридцать моих приятелей. Это были те, кто хотел слышать Окуджаву вблизи, не будучи отделенным от него рядами кресел. И еще они надеялись перекинуться с ним хотя бы парой слов, пожать его руку.
К этой встрече он, Ольга и младший Булат уже с неделю жили у меня – и я мог наблюдать, как все чаще и быстрее утомлялся он от самой, казалось бы, нетрудной работы, от незначительных усилий, даже от неспешной ходьбы. А в тот вечер...
Ольга, почти не мигая, смотрела на Булата, пристроившегося как-то с краю, в привычной ему манере, на высоком деревянном стуле. Булат читал стихи... поднимал на колени гитару и пел – две, три, четыре песенки... нет, баллады, недлинные, спокойно-размеренные и удивительно мелодичные, но порою вдруг взрывающиеся изнутри неожиданным мажорным импульсом.
Небольшая домашняя видеокамера, установленная на треножник, фиксировала каждое слово и каждое движение Булата, каждый звук, извлекаемый аккомпанирующим ему сыном из старенького рояля. Эта лента теперь хранится у меня отдельно от всего видеоархива, но вместе с другими – где он, Оля, Буля в художественной галерее на бульваре Беверли, на набережной лос-анджелесской Венеции, в Китайском городе...
Потом, много дней спустя, мы – Ольга, Булат и я, сгрудившись вокруг портативного кассетника, слушали двухчасовую передачу калифорнийской радиостанции, часть которой была посвящена Булату: записывал я ее просто так, для памяти. Характерное пощелкивание иглы, задевающей царапины на вертящемся в эти минуты в студии диске, безапелляционно свидетельствовало: пластинка (а это была запись, сделанная несколько лет назад в Париже) не лежала в конверте, дожидаясь своего часа: ее слушали – часто и подолгу.
И я в какой уж раз пытался разгадать тайну, которую знал, правильнее сказать, которой от рождения был награжден Булат, – обходиться без перевода на английский... или японский... или шведский...
Не кажется удивительным, что его строфы растаскиваются по заголовкам в русской периодике, отечественной и эмигрантской. "Возьмемся за руки, друзья..." – придумывать не надо, Булат уже все написал. Или исполненный отчаяния и горечи текст недавнего по тем дням интервью Майи Плисецкой: "Ах, страна, что ты, подлая, сделала".
Но вот сейчас: что, что могло побудить хорошо известного в США и не знающего трех слов по-русски искусствоведа подготовить передачу, а одну из самых популярных калифорнийских радиостанций пригласить его специально для этой цели? Ну, сколько русских слышали в тот час передачу – тысяча? Слушателей должно быть десятки тысяч: время в эфире дорого, даже очень дорого. Стало быть, продюсер программы должен бы быть сумасшедшим, чтобы предлагать передачи, которые разорят радиостанцию. Значит, не разоряют...
* * *
Вернусь к тому вечеру. Когда все расходились – где-то в первом часу ночи, – Ольга шепнула мне: "Видел? Вот так всегда, когда его слушают... Господи, откуда он силы берет? Ты же помнишь его днем сегодня".
Помню. Конечно, помню: он ходил мрачный, сутулясь, по двору, руки в карманах, освобождая их время от времени только затем, чтобы потереть грудь. Ольга горестно смотрела на него и ни о чем не спрашивала. Она знала – жмет. Так, что порой трудно дышать. Вот уже почти месяц. И почти каждый день.
Вечер этот был, кажется, в четверг. А в понедельник следующей недели к 6 утра мы "прописывали" Окуджаву в медицинском центре Святого Винсента: здесь, в госпитале, принадлежащем католической епархии, базируется один из лучших в стране "институтов сердца" – клиника, где умельцы с медицинскими дипломами пытаются помочь Всевышнему исправить Его упущения и недосмотры.
Собственно проверка – серия медицинских тестов – была назначена на 7:00, именно к этому времени появился Юра Бузи, и Булата, уже переодетого в больничный халат с забавными, затягивающимися на спине тесемками, усадили в кресло, оснащенное по бокам большими велосипедными колесами. Рослый санитар и смешливая круглолицая филиппинка, подталкивая и направляя сзади кресло, покатили Булата по бесконечным коридорам, наказав нам ждать результатов теста в отведенных для отдыха комнатках (они были здесь на каждом этаже), или в местной столовой.
Мы выбрали второе: нагрузив поднос картонными стаканчиками с плещущимся в них американским подобием кофе, крупными, не вполне зрелыми персиками и сладковатыми плюшками, провели чуть больше часа здесь же за столиком, время от времени звоня по внутреннему телефону на санитарный пост 4-го этажа, куда вскоре обещали вернуть Булата.
* * *
– Операция неизбежна. Желательно – как можно скорее... Может быть, даже сегодня. Аорта перекрыта на 90 процентов.
Бузи выжидательно смотрел на Ольгу. "На 90 процентов...". Это значит: в сердце на столько же меньше поступает крови.
Мы спустились на первый этаж – здесь, в просторном помещении, смежном с коридором, ведущим в административную часть здания, и разделенном легкими переборками на небольшие клетушки, сидели сотрудники финансовой части и беседовали с выписываемыми или только еще поступающими сюда пациентами. Чаще – с членами их семейств.
Предъявленные Ольгой бумаги, свидетельствующие о купленном ими по приезде в США страховом полисе, произвели должное впечатление на принимавшую нас чиновницу – молодую восточного вида женщину по имени, кажется, Зизи. Или – Заза, сейчас не вспомнить. Удалившись ненадолго вглубь офиса, она вскоре вернулась, приветливо улыбаясь.
– У вас все в порядке, страховка покрывает 10 тысяч.
– А сколько может стоить операция? – это спросил я: разговор, естественно, велся на английском, причем мне не без оснований казалось, что принимавшая нас сотрудница госпиталя живет в Америке не так уж давно. Однако друг друга мы понимали.
– Тысяч 25. И поскольку пациент не является жителем США, вам придется оплатить разницу сейчас. Во всяком случае, до начала операции.
– Но, позвольте: в кармане никто 15 тысяч на всякий случай не носит. И если операцию назначат на сегодня?..
Чиновница заученно (не мы же первые оказывались в подобной ситуации), но при этом и смущенно улыбаясь, пожала плечами... Так...
Бузи, переговорив с доктором Йокоямой, блестящим, может быть, даже лучшим в Калифорнии хирургом, работающим на открытом сердце, и заручившись его согласием на немедленную операцию, уехал в свой офис – его ждали больные. А мы, Ольга, Буля и я, оставив Булата в палате с кучей газет и журналов, советских и местных, спустя полчаса хлебали у меня дома остатки сваренной третьего дня ухи, заслужившей, кстати, высшую оценку моих нынешних гостей. ("Дорогой Саша! Если мы приедем, не забудь приготовить уху!" – это приписка в мой адрес из письма, адресованного Лиле Соколовой. Я и приготовил...)
Что же касается русских газет, их Булат всегда ждал с нетерпением: его волновало все, что происходило на родине, – где бы и как далеко он от ее границ ни оказывался.
Здесь не могу не вспомнить эпизод – вроде бы мимолетный, вроде бы забавный, но и оказавшийся столь значимым в контексте зашедшей как-то у нас беседы, что я запомнил его почти дословно.
При одной московской церкви состоял служкой или кем-то в этом роде парень, слагавший стихи. Булат, сопровождавший Ольгу в дни посещений ею церковных служб, что случалось более-менее регулярно – настолько, насколько позволяла жизнь, – внутрь обычно не заходил, но прогуливался неподалеку от святого храма, ожидая жену.
Служка, назовем его Коля, прознав, что видит вблизи настоящего поэта, показывал иногда Булату свои стихи – хотя то, что Коля делал, и стихами-то можно было назвать с большой натяжкой. Булат, однако, внимательно его слушал, даже иногда давал советы, но всерьез творчество Коли по понятным причинам не принимал.
Заметим в этой связи, что для россиян желание самовыразиться в поэтической форме есть нечто органичное, может быть, как раз и составляющее частицу "загадочной", как ее называют, русской души. Так вот, нечто схожее случалось и в Пушкинском музее, где сторожем служил парень по имени Сергей Волгин – это имя напомнила мне в одном из наших недавних разговоров Ольга. И однажды тот прочел четверостишие, поразившее Булата настолько, что он запомнил и вот теперь по памяти смог его воспроизвести. Я его тоже запомнил:
Обладая талантом,
Нелюбимым в России,
Надо стать эмигрантом,
Чтоб вернуться мессией...
Черт меня дернул тогда влезть со своей шуткой.
– Неплохо, – прокомментировал я, – хотя редакторский опыт подсказывает: стихи можно урезать вдвое.
Булат вопросительно посмотрел на меня, и я продолжил:
– Здесь явно лишние 2-я и 4-я строки. Смотри, как хорошо без них: "Обладая талантом... надо стать эмигрантом...". Вот и все.
Булат улыбнулся. И почти сразу нахмурился: шутка моя была явно не в жилу – она могла быть понята как намек (хотя, видит Бог, ничего я такого в виду не имел).
Булат же и в шутку не мог помыслить, что таланту в нынешней России ничто больше не светит... При этом к так называемым "национал-патриотам" Булат относился с большой осторожностью и недоверием. Помню, как-то, отложив просмотренные номера российских газет, в числе которых оказался и прохановский "День", он заметил: "Кошка – тоже патриот. Это же, в конце концов, биологическая особенность – "русский"... Чем же тут хвастать-то? Что дышу местным воздухом?".
– Ну, что будем делать? – вопрос этот относился исключительно к способу немедленного, в течение ближайших двух-трех часов, получения требуемой суммы. Сама сумма не казалась столь уж невероятной, и располагай мы двумя-тремя днями... Но двух-трех дней не было. Не было и одного – было только сегодня.
Сейчас, добравшись до этих строк, я понимаю степень самонадеянности, с которой начал эти заметки – все, мол, помнится, будто было только что: на самом же деле события тех суток смешались в памяти в одну непрерывную ленту, и точную их последовательность установить сегодня вовсе нелегко...
Кажется, Эрнст Неизвестный был первым, кого мы застали телефонным звонком в Нью-Йорке. Сначала с ним говорила Ольга, потом трубку взял я.
Его реакция была мгновенной:
– Старик, я могу заложить дом – но ведь это недели... А где же сразу взять столько?..
Естественно, это первое, что и мне пришло в голову – но за нереальностью было отвергнуто. Все же, спустя час мы уже знали, что здесь, на месте, мы можем располагать если не всеми 15 тысячами, то значительной частью этой суммы. Следовало торопиться – тогда в три часа дня большинство банков закрывали двери. И было около часа, когда раздался этот звонок.
– Вас беспокоят из госпиталя. Извините, но вас проинформировали не совсем точно: стоимость операции составит около 50 тысяч. И внести их надо сразу. Предпочтительно – сегодня. В противном случае мы выпишем больного.
– Как? Куда выпишете? Его же готовят к операции!
– Не обязательно домой – мы можем перевести его в другой госпиталь. В государственный...
Что такое государственный госпиталь, я знал: мне доводилось навещать в одном из них, далеко не худшем в Америке, Володю Рачихина: заместитель директора картины, он бежал в Мексике из группы Бондарчука, снимавшего там "Красные колокола". И стал героем моей только что вышедшей книги – я приносил ему в больницу ее сигнальный экземпляр.
Потом... потом Рачихин умер, в книге была дописана "последняя глава", где я привел описание той больничной палаты в бесплатной (для неимущих пациентов) университетской клинике, – и с сохраненным редакцией предисловием В.Максимова книга была издана заново. А за много лет до того я навещал в Боткинской больнице, что почти в центре Москвы, на Беговой улице, приболевшую тещу.
Благодаря каким-то моим тогдашним связям в медицинском мире, ее вскоре перевели из коридора, ставшего ее первым больничным пристанищем, в палату, где тесно, ряд к ряду, одна к одной умещалось несколько десятков коек. "Царство скорби! – комментировала Елизавета Николаевна окружение, в котором она оказалась, – видел бы это Боткин, он бы в гробу перевернулся!".
Не стану утверждать, что нечто подобное я застал, навещая Рачихина. И все же... В общем, о том, чтобы переводить Булата в государственный госпиталь, речи быть не могло. И не было...
* * *
Да, не все способна сохранить наша память: ну как удержать, например, в голове последовательность звонков, которые мы с Олей безостановочно производили, листая наши телефонные блокноты в попытках застать московских друзей, берлинских, нью-йоркских, бостонских... Здесь день – там ночь, этот в отъезде, тот в больнице...
И почти сразу – шквал ответных звонков.
Не только ответных: весть о болезни Булата распространилась со скоростью, потребной на то, чтобы, узнав о ней, набрать на телефонном аппарате мой номер. Аксенов, Суслов, Надеин – из Вашингтона, Шемякин – из Нью-Йорка... Вознесенский... Коротич... Яковлев Егор – это все из Москвы... Ришина Ира, давняя приятельница и соседка по Переделкино – от себя, но и от "Литературки"... А еще "Комсомолка", "Известия"... и вот – сама официозная "Правда".
Очнулись советский консулат в Сан-Франциско и посольство в Вашингтоне: "Что с Окуджавой? Какая помощь нужна?". – Нужны деньги!. – Сколько? – Много – 40 тысяч, по меньшей мере! Хотя бы гарантии на эту сумму – чтобы провели операцию. После продолжительного молчания: "Будем связываться с Москвой...".
Связываются – до сих пор.
Выручка пришла с неожиданной стороны: один из первых, кто сказал "все сделаем", был живший в Германии Лев Копелев. И сделал, убедив крупнейшее немецкое издательство "Бертельсман", собиравшееся, кстати, печатать сборник Окуджавы, прислать письмо, в котором гарантировалась компенсация госпиталю требуемой суммы. Главное – чтобы операция не откладывалась! Чуть позже позвонил Евтушенко: "Смогу набрать тысяч 10". – "Спасибо, пока – подожди", – Ольга уже держала в руках телеграмму Копелева. Похоже, все устраивалось.
Потом, дни и нередко даже недели спустя, после первых наших бессонных ночей, после операции и после публикаций в калифорнийской "Панораме", ударили в колокола русские газеты и радиостанции Восточного побережья США – когда надо было рассчитываться с госпиталем. И ведь, в основном, рассчитались: небольшую часть, кажется, тысяч 10 госпиталь взял на себя, тысяч 20 собрали эмигранты. Я и сейчас храню их письма – трогательные, преисполненные почтительной любви к Поэту, – которыми сопровождались денежные чеки: на 5, 10, 50 долларов...
И ни копейки из России.
Правда, дошли до нас газетные заметки, что где-то в Донецке или Ростове развернули кампанию по сбору средств "на операцию Окуджаве" – где те деньги, никто до сей поры не ведает.
Не молчала и американская пресса: журналисты в "Лос-Анджелес Таймс", например, с изумлением отмечали энтузиазм, проявленный новыми жителями США при сборе средств на операцию российскому поэту. И помещали фотографии, особо часто ту, трех- или даже пятилетней давности, где мы с Булатом гладим устроившегося у наших ног добермана по кличке Фобос. Откуда газета достала эту фотографию, понятия не имею: может, у наших друзей, может, в "Панораме", где я в те дни появлялся на самое короткое время.
Санитары в голубых халатах катили кровать Булата в операционную, мы до какой-то двери сопровождали его, и я изумлялся абсолютному спокойствию, с которым он встречал эти часы. Уже потом, много позже, снова оказавшись в Штатах, он признавался, что да, боялся операции – но еще больше боялся уронить, как он выразился, достоинство – "показать, что боюсь". А так – "...два раза вдохнул – и уснул".
И знаете, что было одним из первых вопросов Булата, когда он отошел от наркоза и нас допустили к нему? Поглядывая сквозь сеть проводков и трубочек, протянувшихся от его кровати к установленной рядом хитроумной медицинской аппаратуре, он спросил: "Как там Фобос?.." И улыбнулся. Кажется, это было первой его улыбкой после перенесенной только что операции. И своего рода сигнал нам: "Я – в порядке". Так мы его и поняли... Да и потом Булат будет часто вспоминать Фобоса в своих письмах. Вот, к примеру, еще цитата: "Нет-нет, да и представляю себя, ходящим вокруг твоего бассейна, и Фобоса, с недоумением вышагивающего следом...".
Наверное, будет тому достойный повод, я еще не раз вернусь к текстам писем Булата, бережно мною сохраняемым вместе с самыми дорогими сердцу реликвиями.
* * *
Операция прошла благополучно – настолько, что на второй день после нее врачи подняли Булата на ноги и заставили ходить, хотя бы от кровати до двери палаты. Есть у меня несколько фотографий, сделанных тогда в госпитале, одна из них совершенно курьезная: под койкой Булата – судно для известных целей, с фирменной надписью изготовителя 'Bard". То есть "Бард"... Но это – потом. Пока же команда медиков колдовала над Булатом, сердце его, как и положено, было отключено, и длилось это действо часов шесть.
Ольга и Буля в ожидании вестей из операционной не находили себе места, я пытался как-то успокоить их; право, не знаю, насколько успешны были мои попытки – все понятно и так... Где в эти часы был сам Булат? Я спрашивал его потом, ощущал ли он хоть что-то, был ли пресловутый туннель со светом в самом его конце?
– Не было ничего, – коротко отвечал он, не оставляя места для дальнейших расспросов.
На четвертый день мы уже застали его в коридоре. "Понимаешь, – чуть улыбаясь, рассказывал он, – иду и вижу: прямо навстречу мне идет Ганди. Ничего не могу понять. Подхожу ближе – а это зеркало!". Он, исхудавший больше обычного, действительно, становился удивительно похож на знаменитого мудрого индуса.
"Отдали" его нам на 5-й день – после подписания всякого рода финансовых и прочих деклараций. И медицинских наставлений, причем, одно из главных было – много ходить. Что Булат впоследствии и делал – именно те недели вспоминал он в своем письме: бассейн... собака Фобос...
* * *
Предпочтительным, по мнению врачей, должно было быть местонахождение выздоравливающего где-нибудь ближе к воде, к морю. В нашем случае – к океану, что спустя полтора примерно месяца удалось реализовать с помощью моих друзей, больших почитателей творчества Окуджавы: Миша и Лида Файнштейн, живущие в пригородном доме, располагали небольшой квартиркой в многоэтажном здании прямо на океанском берегу в прелестном районе Лос-Анджелеса – Марине-дель-Рей. Там я почти ежедневно навещал Булата с Олей (Буля, убедившись, что отец выздоравливает, по рабочей необходимости отбыл в Москву).
Так прошел еще месяц. Тогда, да и потом, уже вернувшись ко мне, они регулярно показывались врачам, производившим операцию; Оля залихватски, будто урожденная калифорнийка, водила по городу спортивный "Ниссан", в другие дни выполнявший роль дублера моего большегрузного джипа; не однажды навещал Окуджаву на дому и Юра Бузи. Кажется, это он предложил Булату взглянуть на рентгеновские снимки – "до" и "после" операции. Булат отшутился, наотрез отказавшись: "Не хочу смотреть на сердце – противно!". И, обращаясь уже к Ольге, Буле, мне, стоящим рядом, добавил, улыбаясь: "Оставляю это развлечение вам".
Когда я на несколько дней улетел по делам в Нью-Йорк и звонил домой, чтобы справиться, как там дела, Оля передала мне: разыскивает меня кто-то из "Вашингтон Пост", влиятельного столичного издания. Я "вернул" телефонный звонок, журналистка долго расспрашивала меня – о Булате и о событиях этих недель, с ним связанных.
Мне показалось, она была крайне разочарована, когда вместо того, чтобы посетовать вместе с ней по поводу "жестокости, корыстности американской системы здравоохранения", проявившейся, в частности, в ситуации с Булатом, я стал, напротив, хвалить эту систему, и в особенности госпиталь, где столь блестяще была проведена операция. Статья ее, однако, появилась, после чего вице-президент госпиталя, ответственный и за его коммерческую деятельность, звонил мне, чтобы засвидетельствовать свою признательность по поводу проявленного мною "понимания ситуации".
Так что хочется верить: может, отчасти и после этого разговора госпиталь взял на себя долю расходов по операции – к тому же некую часть ее стоимости в добавление к собранным нами деньгам покрыло и американское государство. Мы же, вспоминая те дни, чаще стали повторять замечательную фразу, которую искренне произносят по разным поводам и урожденные американцы, и новые жители этой страны: "God bless America!" – "Боже, благослови Америку!".
Америку Булат любил, что дает мне основание добавить несколько слов к сказанному выше. Он охотно приезжал, когда была возможность выступить перед университетскими студентами и профессорами, перед бывшими россиянами. Или поработать в летней русской школе в Вермонте – этот красивейший североамериканский штат нам однажды довелось пересечь вместе, на пути из Бостона, где мы условились встретиться в один из его приездов, – в Нью-Йорк. Так что упомяну напоследок два эпизода из тогдашнего путешествия.
Первый – бостонский. В этом городе жило к тому году тысяч 10 выходцев из разных мест и местечек бывшего СССР; народ, естественно, был разный – не только университетская публика, гордость тамошней эмигрантской общины. Но все они сохраняли привязанность к привычным продуктам питания, что и вызвало к жизни два-три продуктовых магазина, где на прилавках рядом с русскими книгами предлагалась краковская колбаса и сыр сорта "мадригал".
Хозяйка одного из них, Инна, принимая нас у себя дома, рассказала, как однажды некто из числа ее покупателей, почувствовав себя чем-то обиженным, вышел из очереди и произнес следующую тираду: "Я вас выведу на чистую воду! Нам-то известно, чем вы здесь занимаетесь!" – Чем? – испугалась хозяйка. И правда, кто знает – может, что с санитарией не в порядке, может, продукт попался несвежий... "Вы, – продолжал, разоблачая владельцев магазина, клиент, – вы покупаете товар дешевле, а продаете его дороже!". Рассказ этот вызвал веселье в компании, но и размышления об устойчивости советского опыта, прочно укоренившегося в сознании наших земляков; Булат его потом не раз вспоминал.
И, наконец, набившись в машину Юры Понаровского, брата известной певицы, живущего под Нью-Йорком, мы за несколько часов одолели мили, отделявшие Бостон от Города Большого Яблока, и, изрядно проголодавшиеся, въехали в Манхэттен. Перекусить следовало срочно – вселение в гостиницу заняло бы определенное время, есть же хотелось сейчас. Я вспомнил, что мои знакомые – художник Гена Осмеркин и его супруга, бывшая ленкомовская актриса Марина Трошина, готовились на месте купленной ими пельменной открыть русское кафе, и имя ему было уже придумано – "Дядя Ваня". Адрес я примерно знал – и вскоре мы въехали в узкую улицу, залегающую, как ущелье, среди небоскребов центральной части города.
Знаете, что мы увидели, подъехав к нужному дому? На ступеньках, ведущих в будущее кафе, сидела Марина и листала только что пришедшую по почте "Панораму". Хотя, почему "будущее"? Для нас быстро накрыли стол и, несмотря на то, что кафе открывалось только завтра, накормили, чем Бог послал – главным образом, пельменями из запасов доживающего последние часы русско-американского кулинарного предприятия. И было это совсем неплохо – как и все то время, что мы провели в этой поездке.
Повторить бы ее сейчас...
После нескольких дней в Нью-Йорке, была "Аленушка" – пансионат в Лонг-Айленде, существующий заботами концертного импресарио Виктора Шульмана. Имя это знакомо российским исполнителям, гастролирующим по всему миру – и по его антрепризе, и по дому отдыха, расположенному на берегу невероятной красоты озера. Были лодочные прогулки, была сауна и, конечно, долгие вечерние разговоры за обильным столом: здесь же отдыхал в ту пору составивший нам компанию литератор Саша Иванов с женой – известной балериной Олей Заботкиной.
И были еще годы творчества. Были вместительные, и все равно переполненные почитателями поэта, залы в самых окраинных, самых отдаленных от России уголках нашей планеты. И в Америке – тоже.
Но об этом – когда-нибудь потом...


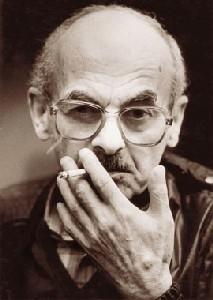

Добавить комментарий