Продолжение. Начало в №4 (16-29 февраля 2012 г.)
Расчистка иконы: чего не сказали слова...
Ирина Чайковская: — По определению Владимира Спивакова, вы занимаетесь своего рода «расчисткой иконы». Вы показываете, какую тактику вынужден был избрать композитор в условиях тотального террора, когда обвиненный в «сумбуре вместо музыки» (1936) или в «формализме» (1948), старался сохранить себя для творчества. А тактика была такая: соглашаясь на словах, протестовать в музыке. Вы профессионально эту музыку расшифровываете, читаете послания композитора, исходя из музыкальных цитат и нотной «монограммы», видите «танец смертника» в Скрипичном концерте, или «реквием по самому себе» в Восьмом квартете, но публика этих «знаков» может не прочитать... Слова же люди слышат и читают... Не из этого ли источника проистекло желание композитора высказаться в мемуарах?
Соломон Волков: — Безусловно, вы правильно уловили. Вне всякого сомнения, Шостаковича огорчало то, что слушатели, в том числе и на Западе, не понимают скрытого смысла его произведений, что побудило его высказаться прямо. Он видел, что слова многое объясняют. Стремление объяснить скрытые смыслы, — это то, чем занимается герменевтика. Она не зря завоевала такое существенное место в современной культуре. Появилась целая наука под названием иконология, ею занимался немецкий ученый Эрвин Панофски, его сферой была интерпретация изобразительного искусства Средних веков, Возрождения, Барокко. Культура этого времени была переполнена скрытыми смыслами, и это было богатейшее поле для интерпретаций. Эти скрытые смыслы, эта символика в изобразительном искусстве дают второй, третий планы восприятия...
— Вы знаете, Соломон, я много об этом думала, сама занималась «расшифровкой» некоторых песен Окуджавы, где есть невидимые «скрытые» смыслы, восходящие к грузинскому фольклору или к «Витязю в тигровой шкуре». Если исследователь живет в другую эпоху, как ваш немец, то ему гораздо сложнее до этих скрытых смыслов доискаться. Что до Шостаковича, то вы были его современником, с ним непосредственно общались, вам, бесспорно легче проникнуть в его замыслы, чем тем, кто будет жить спустя сто лет, ибо вы погружены в этот контекст — исторический, политический, личный... Я поразилась вашим анализам музыкальных текстов. Вы словно в открытой книге читаете и видите, что происходит на душе у композитора. Мы, обычные слушатели, как правило, воспринимаем драматизм, трагедийность, но не сцепления, не ассоциации, к которым отсылается высокий профессионал...
— Должен сказать, что музыка одновременно и зашифровывает и дает возможность очень точно высказаться — специфическим образом. Дело в том, что музыкальные звуки, ноты, все имеют буквенные обозначения. Они разные, но есть общепринятые. Вот есть у Шостаковича мотив, который звучит так: та/та>та>та.
— Это его монограмма?
— Да, первые буквы имени и фамилии по-немецки. Это на самом деле самая простейшая разгадка. Если ты слышишь эти звуки, то понятно: это он говорит о себе. Любопытный факт. То, что Шостакович использовал музыкальную монограмму, было известно еще при его жизни практически всем писавшим о его музыке. Но даже близко его знавшие люди настойчиво подчеркивали: не нужно им придавать никакого автобиографического значения.
— Смешно это. Люди затыкали уши сознательно.
— Шостакович им: это я, это я — посмотрите! А они — испуганно: нет, нет, нет, Дмитрий Дмитриевич, это не вы!
— Прекрасно вы сказали, наглядно. Ведь действительно, если все у него было хорошо: деньги, премии, почет — то зачем прислушиваться к этим трагическим звукам, к этим горестным признаниям?
— DSCH — это его монограмма, использовал он и другие монограммы. Вот интересный момент. В Десятой симфонии 12 раз повторяется один и тот же мотив у валторны, и все гадали, что бы это значило. Вдруг выяснилось, что ДД был в то время увлечен своей ученицей, по имени Эльмира Назирова. В этом мотиве он зашифровал имя Эльмиры. Вложил свою эмоцию в произведение, в ХХ веке это довольно распространенная игра. Альбан Берг, оказавший огромное влияние на Шостаковича, и они, кстати, встречались в Ленинграде в 1927 году, когда австрийский композитор приезжал на премьеру своей оперы «Воццек», так вот Берг так зашифровывал имена своих возлюбленных.— Способ распространенный не только в музыке, Соломон. «Поэма без героя» Ахматовой вся зашифрована. До сих пор разгадывают.
— Только там нужно гадать, а здесь гадать не нужно.
— Очень впечатляет рассказ о том, что тему известного бернсовского стихотворения о пустившемся перед виселицей в пляс Макферсоне Шостакович включил в несколько «автобиографических» произведений.
В последний час
В последний пляс
Пустился Макферсон.
Или Восьмой квартет, который вроде бы был посвящен жертвам фашизма... однако в письме к Исааку Гликману ДД признался, что написал реквием по самому себе.
— Когда сыграли это сочинение, всем все было ясно. Но я, как и все, написал тогда в заметке, что квартет посвящен «памяти жертв фашизма». Были такие жесткие параметры, за пределы которых нельзя было выйти. Нельзя было писать, что это автобиографическое произведение, что Шостакович жалуется в нем на свою тяжелую судьбину и именно поэтому цитирует песню «Замучен тяжелой неволей...».
— А вот интересно. Совсем недавно наткнулась на рецензию на вашу книгу, где опять подвергается сомнению, что Седьмая симфония направлена не только против фашистского нашествия, но и против сталинского террора. Вы начинали об этом писать уже в «Истории культуры Санкт-Петербурга». Никак это не входит в сознание.
— Факт тот, что тему нашествия, которая четко ассоциируется у слушателей с фашистами, ДД играл своим ученикам до войны. Это установленный факт. Но людям удобнее жить по популярным, закрепившимся в сознании формулам.
— Эти формулы разбиваются о доказательства. В книге о Шостаковиче они уже более развернуты. И любопытно, что сейчас это сходство двух систем, двух тоталитарных правлений — Сталина и Гитлера — уже все видят, это стало общим местом.
Навешивание ярлыков
— Я не собираюсь в отношении кого бы то ни было — Шостаковича, Сталина — ставить какую-то окончательную точку. Я сторонник исследования, которое является процессом. И процесс этот бесконечен. В отношении Шостаковича, например, я насчитал в течение его жизни 15 разных рецепционных позиций. Причем, началось это с самой высокой ноты. В 1923 году — ему было 17 лет — его в печати назвали гением. Представляете, так начать?
— Начало прекрасное. Такое начало было и у Ахматовой. И этот заряд «счастья», полученный в юности, мне кажется, дал обоим силы для последующих испытаний.
— Дальше он занимал позицию «хулигана».
— Это, скорей всего, когда работал с Мейерхольдом и Маяковским над «Клопом».
— Потом он стал «надеждой Советской власти», потом «формалистом». Во время войны он стал «композитором-воином». После войны он стал «антинародным» композитором. Умер он «великим советским композитором». Эпитет «великий» тогда был употреблен в некрологе впервые после смерти Сталина. Задержали некролог, чтобы получить санкцию Брежнева, который был в отпуске.
— Очень интересно, Соломон. И поучительно.
— Моя интерпретация — и скрытых смыслов музыки Шостаковича, и его биографии, и его взаимоотношений со Сталиным — не претендует на окончательность. Это, возможно, еще одна «позиция...».
Общественное служение
— Понятно. Мы с вами уже давно спорим по поводу слова «маска» по отношению к творцу, для меня «маска» предполагает игру и неискренность, давайте будем говорить об «ипостаси». У Шостаковича вы насчитали их три: Юродивый, Летописец и Самозванец. Все они восходят к Пушкину-Мусоргскому, к любимой Шостаковичем опере «Борис Годунов». Мне кажется, наименее убедительна в этом ряду ипостась Самозванца. Говоря о «самозванстве», вы упоминаете общественную деятельность Шостаковича, его депутатство — огромные очереди ленинградцев к своему депутату. Но разве стремление помочь окружающим так уж плохо? Да, это уводило композитора от сочинения музыки, но давало опыт общения с людьми, сталкивало с их насущными проблемами. Общественной деятельностью занимался Аркадий Райкин. Сейчас есть артисты, помогающие больным детям. Для вас эта замена «прямого дела» другим, общественно значимым, равносильна «самозванству»? Кстати, почему вы называете Шостаковича «популистом»?
— «Популизм» для меня, может быть, не очень удачное обозначение народничества.
— То есть вы используете это слово не в отрицательном значении, в каком оно сейчас употребляется?
— Ни в коем случае. Идеология семьи ДД, его родителей была народнической. В семье Шостаковичей — не будем об этом забывать — были революционеры. И тут мы опять возвращаемся к общему культурному полю у Сталина и Шостаковича — один и другой выросли в рамках народнической идеологии.
— Только один стал палачом своего народа, а другой национальным гением. Так почему же Шостакович, по-вашему, порой был Самозванцем?
— Вас, по-моему, смущает семантика. Я обратил внимание на то, что Пушкин пишет о Самозванце с явной симпатией.
— Согласна, с симпатией. В пушкинской трагедии Самозванца зовут Григорий Отрепьев. Для вас Шостакович похож на него?
— Не знаю, заметил ли кто-нибудь до меня, что Пушкин представлен в «Борисе Годунове» тремя фигурами. Он видит себя в летописце Пимене, видит себя в Юродивом, говорящем правду в лицо царю, и видит себя в Самозванце. Самозванец — это такой веселый авантюрист.
— Об этих трех ипостасях Пушкина я, признаться, нигде не читала, впрямую об этом никто не писал. Так мотив «самозванства» не связан с общественной деятельностью Шостаковича?
— Связан. Я говорю о том, что человек типа Шостаковича, занявшись общественной деятельностью, невольно начинает делать некоторые не свойственные ему вещи, например, читать не им написанные речи... В этом есть некий налет самозванства.
— Понятно. Он делает не свое дело, и он за него как бы не отвечает...
Но здесь есть формальная сторона, а есть содержательная. Конечно, когда он читает по бумажке какие-то чужие речи, — он Самозванец. Тут легко вспомнить уморительную песню Галича «О том, как Клим Петрович выступал на митинге»: «как мать вам говорю и как женщина...». Но если он реально помогал людям...
— Скольких людей он вытащил из лагерей!
— Тогда какое это самозванство!
— Человек, который входит в коридоры власти, — а ДД вошел в них, став секретарем Союза композиторов РСФСР, — неизбежно становится представительской фигурой. Свадебным генералом. Нужно было где-то присутствовать, выслушивать доклады, самому их делать...
— Понимаю, о чем вы говорите.
— А вообще это была нагрузка, которую ДД сам себе повесил на шею, считая, что должен «потрудиться» для народа. Это была «народническая традиция» его семьи. Тогда Союз занимался реальными делами помощи композиторам — организацией концертов, обеспечением жильем, пенсиями. Это сейчас все выживают в одиночку, и творческие союзы живут за счет сдачи в аренду помещений...
Не боялся Сталина, но боялся управдома
— Соломон, давайте проясним вот какой вопрос. В книге «Шостакович и Сталин» вы говорите о том, что Шостакович в опасное сталинское время выработал для себя некую концепцию. Что слова для него перестали что-то значить и свои истинные мысли он выражал в музыке. Вот этот тезис вызывает у многих недоверие. Все же люди слушают слова и верят словам. А если человек выступает с «правильными» речами, подписывает официозные письма... Причем, обращается внимание не на ту подпись, которую Шостакович поставил под письмом в защиту Бродского, а на ту, что в письме против академика Сахарова... Подписывал он это письмо? Я слышала, что подпись Шостаковича поставили без него.
— Да, об этом есть свидетельство его вдовы. Кто-то скажет: почему же он не выступил против «фальсификации»? Что сказать? Я не припомню такой истории даже в период позднего Советского Союза, чтобы кто-то опротестовал свою подпись под официозным документом.
— Да, это сейчас находятся отдельные члены «правящей» партии, обвиняющие ее в фабрикации их подписей. Но это им ничем не грозит. А тогда это было чревато...
— Есть свидетельство Евтушенко: Шостакович подписывал официальные бумаги, не читая, причем «вверх ногами». Это для него ничего не значило, зато он говорил: «В музыке я никогда не лгу». Моя точка зрения такая: даже самый большой гений бывает, что ошибается. Шостакович в этом вопросе ошибался.
— В чем он ошибался?
— Он ошибался в том, что считал, что его выступления, подписи под письмами — все это никак не скажется на восприятии его музыки. Оказалось, что люди принимают это во внимание, запоминают... Интересно, что подписи Шостаковича нет ни под одним «осудительным» письмом сталинского времени, когда это грозило смертью и заканчивалось часто смертью. Тогда Шостакович ничего такого не подписывал. С возрастом, с болезнями, с общим нарастанием пессимизма его поведение изменилось. И до сих пор, когда обсуждают личность Шостаковича, всплывают два конкретных факта: вступление в партию в 1960-м году и подпись под «сахаровским» письмом.
— Погодите, Соломон. Вы же говорите, что, по рассказу Ирины Антоновны Шостакович, подпись под письмом против Сахарова была поддельная, ДД его не подписывал. А насчет партии... Стоит прочесть письмо к Исааку Гликману с описанием чудовищных моральных мук, связанных с вынужденным вступлением Шостаковича в ряды КПСС, как поймешь, чего стоил композитору этот шаг. Может, некоторые из молодых не знают, что в те годы, чтобы занимать какой-либо официальный пост, нужно было обязательно состоять в партии. У меня мама должна была вступить в партию, иначе ее не назначали заведующей лабораторией.
Конечно, она не была в ситуации Шостаковича, на которого все смотрели...
— Шостаковичу как раз тогда предложили пост первого секретаря Союза композиторов РСФСР.
— Это связано одно с другим. ДД в своем бытовом поведении не был личностью героической, лезущей на рожон. Ему нужно было хранить себя для музыки, для семьи, для детей...
— Вы знаете, Ирина, что Рудольф Баршай предложил в качестве эпитафии для Шостаковича? «Здесь лежит человек, который не боялся Сталина, но боялся управдома». Вступление в партию для Шостаковича — трагический шаг.
Два гения
— Вижу, что в сравнении со «Свидетельством» многое в вашей книге получило обоснование, развитие и продолжение. Так, о Прокофьеве, помнится, в мемуарах было сказано не слишком доброжелательно. А здесь мы читаем, как на похоронах старшего по возрасту композитора (умершего в один день со Сталиным, 5 марта 1953 года) Шостакович сказал, что гордится тем, что ему «посчастливилось жить и работать рядом с таким великим музыкантом, как Сергей Сергеевич Прокофьев». И все же, как относились друг к другу два этих гениальных композитора и современника?
— Я отвечу цитатой из книги, которая прошла незамеченной, хотя представляет собой правдивый и интересный документ времени. Это мемуары композитора Дмитрия Алексеевича Толстого, сына писателя Алексея Толстого, который в доме отца мог видеть и Прокофьева, и Шостаковича: «Между этими великими композиторами никогда не существовало дружеских отношений». Когда они познакомились, то обнаружилось «полное несходство характеров и вкусов. Столкнулась бесцеремонная прямота одного с болезненной ранимостью другого». И дальше мемуарист описывает примечательный эпизод: в 1933 году в доме у Толстого была устроена встреча, на которой присутствовали Прокофьев и Шостакович. Прокофьева попросили сыграть что-то свое — он сыграл, вызвав восторг аудитории, потом мама Мити Толстого попросила сыграть Шостаковича. Он сказал, что только что написал Первый концерт для фортепьяно — и стал его играть. Когда он закончил, все посмотрели на Прокофьева. Тот сидел нога за ногу, а руку закинул за спинку кресла. Высказался о музыке Шостаковича он так: «Ну что вам сказать, это произведение мне показалось незрелым и не очень отвечающим требованиям хорошего вкуса». На самом-то деле, это один из шедевров молодого Шостаковича!
— Первый концерт! Это бездна свободы, юмора, потрясающей бесшабашности! Сам же Прокофьев творил в этом ключе. Что это? Нежелание признавать себе равного и в чем-то себе подобного соперника? Так мог высказаться какой-нибудь дремучий ретроград, но не Прокофьев. Конечно, это очень обидный и, главное, несправедливый отзыв.— Услышав такое, Шостакович выбежал вон со словами: «Прокофьев — негодяй и подлец! Он больше для меня не существует». Гости были тому свидетелями. Я вам скажу, что формулировка Дмитрия Толстого «бесцеремонная прямота одного и ранимость другого» невероятно точна. Прокофьев был человек с большим самомнением. Шостакович тоже понимал про себя, кто он такой, но никогда этого не показывал. В поздние годы, когда начинали его величать великим, он болезненно морщился и говорил: «Сегодня великий — завтра враг народа». Прокофьев же резал в лицо собеседнику абсолютно все. Вот было такое противостояние. Но ничего нет статичного. Их отношения развивались. Сначала Прокофьев был абсолютный мэтр, ДД у него многому научился как композитор. Потом постепенно с развитием дарования Шостаковича он стал превращаться для Прокофьева в соперника. Это бесспорно сфокусировалось в вопросе о Сталинских премиях: кто их больше получит.
— У Прокофьева их шесть, на одну больше, чем у Шостаковича. Это что-то решало? Прокофьев под отеческим «крылом Сталина» жил — дрожал, умирал — дрожал.
— Несколько лет подряд, начиная с 40-го года, Сталинские премии получал Шостакович, а Прокофьеву их не давали.
— Это была такая игра у Сталина?
— Конечно. Когда наконец Прокофьеву дали премию, его друзья почувствовали облегчение: наконец-то!
— Два гения, причем одинакового плана — модернисты, авангардисты, смелые новаторы, живущие в одно время и — с возвращением Прокофьева в Россию — в одной стране, в одном городе. Очень сложно было им строить отношения! Вот и у Ахматовой и Цветаевой отношения были весьма неровные. Не знаю, смогли бы они сойтись, если бы Цветаева вернулась раньше и не погибла так быстро. Бунин и Набоков «соперничали» на расстоянии, в итоге один (Бунин) получил Нобелевскую премию, а второй нет...
— Здесь хорошо проявился маккиавелиевский характер политики Сталина: он за что-то «наказывал» Прокофьева, выдвигая Шостаковича как композитора номер один. Это опять-таки не могло не отложить отпечатка на личные взаимоотношения этих композиторов. Они повернулись лицом друг к другу в 1948 году, когда оба попали под обстрел идеологической критики. Оба тогда были названы «антинародными» композиторами.
— Шостакович высмеял все эти клише — «антинародный», «формалистический» — в своей беспощадной, написанной «в стол» сатире — комическом и одновременно зловещем «Антиформалистическом райке», впервые исполненном в Америке в 1989 году, через 14 лет после смерти композитора. Сталин там выступает под именем Единицына, он, вкупе со своими помощниками, предписывает музыкантам писать «народную» и «мелодичную» музыку... Прокофьев таких «диссидентских» откликов на происходившее судилище не оставил. Стало быть, их обвиняли не только в «формализме», но и в «антинародности».
— Да, было выдвинуто такое страшное обвинение, грозившее жизни обоих. Обвинение было предъявлено, но ни один из названных в партийном постановлении композиторов арестован не был.
— Это странно. Чем вы это объясняете?
— Это то, над чем стоит задуматься и что стоит проанализировать. Нам следует изучить документы из тогдашних архивов, чтобы суметь ответить на этот вопрос. К сожалению, многие архивные материалы до сих пор засекречены и недоступны. 1948 год Шостаковича и Прокофьева сблизил — как товарищей по несчастью. И уже с тех пор ДД иначе относился к Прокофьеву. Однако в последние годы что-то изменилось. Тут мы опять возвращаемся к вопросу, почему в мемуарах такой саркастический тон в отношении коллеги.
— Это правда. Шостакович говорит и о том, что Прокофьев был чрезвычайно сервилен к власти, и о том, что, не желая оркестровывать произведения, поручал это делать другим музыкантам.
— У Прокофьева были композиторские претензии к Шостаковичу. Они, хотя оба были авангардистами, принадлежали к разным стилистическим течениям. Шостакович, будучи младше Прокофьева, вначале относился к старшему коллеге с пиететом. Потом пиетет исчез и стали вспоминаться какие-то обидные вещи, сказанные Сергеем Сергеевичем. И это окрасило мемуары. Я же, тогда совсем молодой человек, не решался возражать.
— В вашей книге «Шостакович и Сталин» передан весь спектр отношений ДД к Прокофьеву. И здесь громко звучит мотив примирения. Шостакович перед лицом смерти своего старшего собрата-гения, когда отступило все земное и суетное, воздает ему должное.



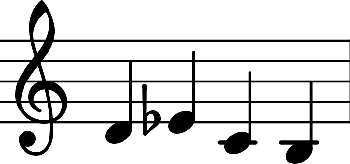



Добавить комментарий