Благоговейное отношение к тайнам бытия он сохранял всегда.
Иногда отец Александр прибегал к неожиданным цитатам, стремясь объяснить природу инобытия: «Посмертие невозможно представить себе пустым бездействием, томительной „прогулкой в райских садах“ — оно явится процессом непрерывного становления и восхождения к вечному совершенству. „Уверенность в том, что мы продолжаем жить вечно, — говорил Гете, — вытекает у меня из самого понятия деятельности. И если я, не зная устали, буду деятелен до самого конца, то природа, когда теперешняя моя форма уже не сможет выдержать тяжести моего духа, обязана будет указать мне новую форму существования. Пусть же Вечно Живой не откажет нам в новых видах деятельности, аналогичных тем, в которых мы уже испытали себя“. Эти слова великого поэта и мыслителя напоминают нам о том, что посмертие тесно связано со всей земной жизнью, подобно тому, как наследственность и условия существования в теле матери влияют на рождение и жизнь человека. Земное существование дано нам не случайно и не бесцельно. Формируя свой дух на путях жизни, мы готовим его к вечности. И эта подготовка должна выражаться в нашей деятельности на земле.
Еще философы Индии и Греции поняли, что кроме физических законов существуют и законы духовно-нравственные, и что они действуют с определенной последовательностью. Каждый несет в посмертие то, что он уготовил сам себе здесь. Семя с червоточиной никогда не даст здорового растения. Зло и духовная убогость на земле эхом отзовется в нашем запредельном бытии. Поэтому призвание каждого человека, который серьезно и с ответственностью подходит к проблеме жизни и смерти, — уже здесь, говоря евангельскими словами, „собирать себе небесное сокровище“. В стремлении к „спасению своей души“, то есть приобщению к Божественной Жизни, мы должны видеть не эгоизм, а естественную, заложенную в человеке потребность».
Отец Александр умел охватывать взором всю историю Вселенной. И она не казалось ему обреченной: «Пламя Логоса горит „во тьме“, постепенно пронизывая мироздание. Царству вражды и разложения Бог несет животворную силу единства, гармонии и любви. И, подобно, растению, которое тянется к солнцу, природа внемлет этому призыву и повинуется Слову. Чем больше узнаем мы сегодня о процессе миротворения, тем яснее обрисовывается картина Вселенной, восходящей по ступеням ввысь. Сначала — упорядоченность структур, потом — жизнь, и наконец — человек. Борьба не стихает ни на миг. С каждым шагом Змей отступает во тьму, с каждым шагом всё шире разливается сияние. Когда же человек не выполнил своего предназначения, Само Слово явило Себя миру, воплотившись в „новом Адаме“. „Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного…“ Но самоотдача Иисуса не могла не стать трагедией. Кто соединяется с падшим миром, неизбежно становится причастным его страданию. Отныне боль любого существа — Его боль. Его Голгофа. Среди людей Иисуса ждет не торжество, а муки и смерть. Безгрешный, Он берет на Себя все последствия греха. Поэтому и призывает Церковь всех идущих за Ним: „Будем с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на Начальника и Свершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежащей Ему радости, претерпел крест“».
В самые тяжелые времена, когда казалось, что всё, с таким трудом выстроенное им в жизни прихода, рушится, отец Александр не терял уверенности в победе Христа: «Я верю, что история имеет смысл. Если она сейчас прервется, то будет скорее похоже, что она не удалась. И тогда многое теряет смысл. Евангелие не реализовано и не понято. Его осуществление может быть только впереди, но верю (по Библии) также, что и царство зла будет возрастать. Так что это не просто оптимизм. Я не в состоянии поверить в эсхатологию В. Соловьева. Мне кажется, что Евангелие только начало давать первые всходы, что впереди еще долгая история. Какие-то цивилизации могут погибнуть, но „дело Христово“ не может полностью потерпеть поражение на земле. Угрозы Апокалипсиса — это альтернатива, как пророчество Ионы о гибели Ниневии (Бог её пощадил вопреки желанию пророка). Эта мысль развита Н. Федоровым, и мне она ближе, чем эсхатологизм „Трех разговоров“. К тому же мысль В. Соловьева, что зло и Антихрист идут в добром обличьи в наш век, не может быть разделяема полностью. Многое выступает почти без маски. Но в каком-то будущем такая маска возможна как временный камуфляж. В этом прав и В. Соловьев». Татьяна Викторова вспоминала, как в ответ на жалобы прихожан, что трудно жить и что ветер дует прямо в лицо, отец Александр ответил: «Это же прекрасно! Так и должно быть — ветер прямо в лицо!»
В ХХ столетии в СССР был широко распространен соблазн империи. Почему-то для многих, в том числе российских эмигрантов, империя была высшей ступенью государственного устройства. Когда после окончания Второй мировой войны Советский Союз оказался среди стран-победителей нацизма, эмигранты, скорбевшие о гибели империи, простили большевикам все их грехи. Многие из них возвращались на родину и заканчивали свои дня в сталинских концлагерях. Отец Александр, рассматривая миф о Вавилонской башне, писал: «На первый взгляд, замысел строителей башни не кажется заслуживающим упрека. Они хотели жить вместе, боялись рассеяться и вот поставили себе как бы ориентир в гладкой равнине. Образ Башни был, несомненно, навеян зиккуратами Месопотамии. Но они не были указателями, а посвящались богам. Эта языческая их сторона могла быть причиной гнева Божия, но на нее в Библии нет ни малейшего намека. К этому нужно добавить, что, вероятно, именно в виде ступенчатого сооружения представляли себе и древние евреи лестницу, ведущую в небо.
Итак, ключ к расшифровке сказания нужно искать не в самой Башне и не в городе, а в чем-то ином. И тут на помощь приходят древние клинописные тексты. Оказывается, в надписях воинственных царей Месопотамии нередко встречается выражение „сделать людьми одного языка“. Так, Тиглатпаласар I (ок. 1000 г. до н. э.), говоря о своих победах и наложении дани, заключает манифест словами: „Я сделал их людьми одного языка“. Саргон II (ок. 715 г. до н. э.) требовал от жителей своей столицы, чтобы они „говорили на одном языке“. Эту терминологию использовали и Саргон Аккадский, и последний великий царь Ассирии Ассурбанипал.
Эти надписи бросают неожиданный свет на библейскую Башню. Она оказывается недвусмысленным символом империй, подчинявших себе людей путем насилия. Сплочению человечества в Боге и через Бога строители „Вавилона“ противопоставляют единение внешнее, на чисто человеческой основе, и для этого воздвигают свою исполинскую Башню. От Саргона, вавилонян, фараонов и ассирийцев, от персов, македонцев и римлян вплоть до нашего столетия высятся на дороге истории обломки этих недостроенных имперских башен... Уже не первобытный человек, а питомец цивилизации ищет автономии и идет по пути самообоготворения. Но сущность трагедии остается всё той же, что и в Эдеме. Башня-империя есть символ попытки „устроиться без Бога на земле“. Вновь и вновь хлопочут строители, вновь и вновь озабочены решением задачи „устроения“ общества („чтобы нам не рассеяться по лицу земли“), но вновь и вновь сходит Господь „посмотреть на город и Башню“, и неизменно плоды демонической гордыни рушатся, как сделанные из песка..».

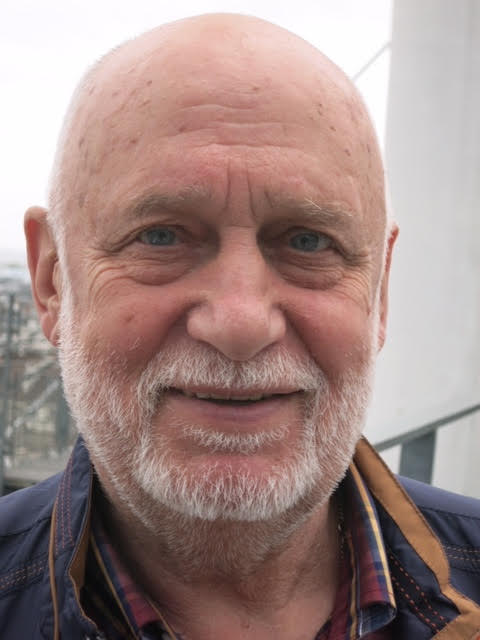
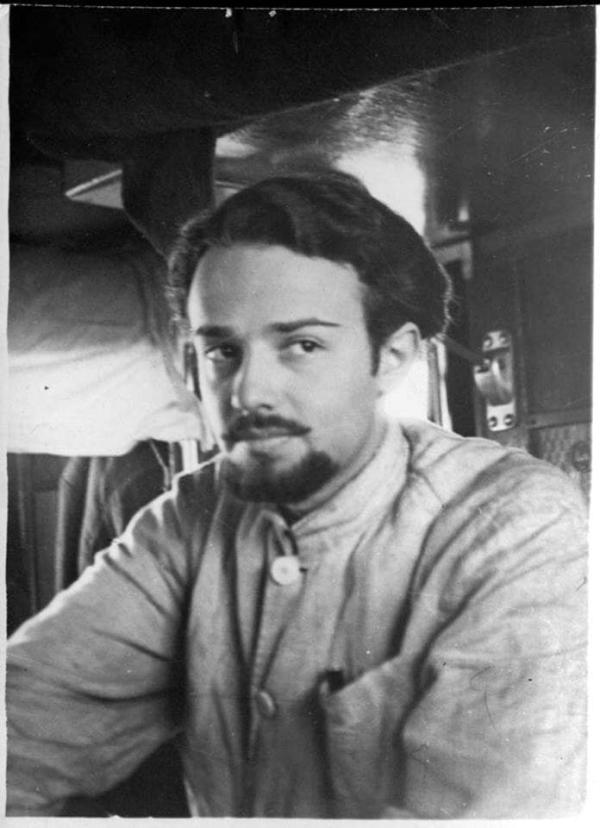


Добавить комментарий