В те далекие дни, когда Иерусалим пал под ударами Навуходоносора в 586 году до н.э., сыны Иуды и Израиля оказались в цепях вавилонского плена. Великий город Бавель (Вавилон) с его зиккуратами (храмовыми башнями) стал их новым домом, но не по доброй воле. Там, среди шумных базаров и храмов богов Мардука, Набу, Иштар и многих других, иудеи и израильтяне (тогда они были еще не совсем единым народом) учились жить между верой в Яава (Яхве, Иегову — бога сынов Израиля) и приспособлением к чужим обычаям. Прошли годы, и в 539 году царь Куруш (Кир) Великий, покоривший Вавилон, позволил всем народам бывшей Нововавилонской империи вернуться в свои земли. Но далеко не все иудеи и израильтяне отправились в путь: многие, пустив корни в благополучном Бавеле, остались, строя мосты между мирами. Среди них — семья торговцев, чьи судьбы сплелись и с Великим Городом, и с грядущим возрождением Храма в Ерушалаиме. Эта история — попытка возвращения забытых голосов из прошлого, рассказ о тех, про кого в учебниках истории упоминают лишь в конце абзаца…
В тот день, когда караван сынов Иеуды и Израиля уходил из Бавеля в Заречье[1], почтенный торговец господин Рефаяу бен-Самхияу решил устроить себе внеплановый выходной. Такой, знаете ли, ранний Саппату[2] (а до Саппату, на самом деле, оставалось буквально пара дней), или внеурочный Шаббат. Он сидел на крыше своего дома в тени навеса, потягивал через трубочку из кувшина горьковатую сикеру[3]. Господин Рефаяу жил в Старом городе, в хорошем районе, неподалеку от проспекта Айбуршабум, и сейчас перед ним открывался прекрасный вид и на храм Иштар, и на Эсагила[4] — храм Мардука, и на возвышающуюся над городом башню Этеменанки[5], и на зеленеющие у ее подножия галереи дворца, засаженные, по прихоти жены Набу-куддури-уцура, мидянки Амитис, различными экзотическими растениями. Надо же, думал Рефаяу, уже давно ни ее, ни самого царя Набу нет на свете, и Бавель уже не тот, что прежде — а забава эта дорогостоящая все живет, и ни один из властителей, занимавших с тех пор трон Великого города, не посмел распорядиться прекратить поливать вознесенные на высоту сады, ремонтировать размываемые глиняные стены, прочищать проложенные в них трубы… Потому что — красиво. Потому что всему просвещенному миру Бавель известен, в частности, вот этими садами, подобных которым нет нигде. Может быть, в том числе благодаря и этим садам даже воинственный Куруш не посмел разрушить город. Получается, красота спасает мир? Вполне возможно…
Рефаяу шумно втянул в себя еще глоток сикеры. О красоте хорошо размышлять, сидя вот так вот, нежарким днем, на собственной крыше, тихо празднуя успех сделки, которую подготавливал несколько месяцев и которая завершилась вчера успешным подписанием выгодного договора. Однако же мир, расстилающийся под сенью висячих садов, суров и безжалостен и в нем за все приходится платить. Ну вот, к примеру, давешняя сделка: глава Великого Собрания коэн Йоцадак написал рекомендацию своему родственнику из Ниппура, человеку серьезному и состоятельному, и теперь товар в Бавель оттуда идет только караванами Рефаяу бен-Самхияу… Конечно, дело не в регулярных пожертвованиях на благо общины — жертвуют-то многие, да вот рекомендации пишут не всем. Он, Рефаяу, был среди тех торговцев города и других солидных людей, распоряжающихся имуществом и финансами, кто служил Яава и к тому же пользовался доверием Великого Собрания. Именно их, десятка полтора человек, коэн Йоцадак собрал однажды ночью в Саппату и посвятил их в тайну Нового Завета избранного народа с Яава и рассказал о грядущем возвращении Зерубавеля и его людей в Ерушалаим. Многие из собравшихся в ту ночь удивились и возражали коэну и другим мудрецам — деловым людям Бавеля предприятие показалось слишком рискованным и неразумным. Но Рефаяу сразу сообразил, где тут, по меткому выражению подлого люда, собака зарыта, и поддержал коэна, и склонил на свою сторону сомневавшихся, и так было договорено о всяческой поддержке, которая будет оказана экспедиции сейчас, а главное — потом, если все сложится у репатриантов удачно. Понятно, что теперь Рефаяу пользовался безоговорочным доверием мужей из Дома Учителя.
А связи в Доме Учителя ему достались от отца, Самхияу из Ерушалаима, да будет благословенна память его. Отец воспитывал и Рефаяу, и младших его братьев, в почтении к традициям предков, нанимал для них учителей древнего языка и книжной премудрости народа из Заречья, но и в школу при храме Мардука мальчики ходили исправно. На восьмой день после рождения каждого из братьев обрезал приглашенный раб-бани из района Шушан, но потом жрец главного городского бога дал мальчикам аккадские имена (Рефаяу, например, для тех своих друзей и клиентов, кто не служил Яава, был Рапа-Яма). В доме отца не делали никакой работы в Шаббат, но Саппату отмечали особенно празднично. Более того — отец дал хорошее образование их старшей сестре, Дане: она училась в женской школе писцов — дело в общине народа Авраама невиданное. Самхияу выдал ее замуж за знаменитого Учителя и Воина Баруха бен-Нерияу и тем самым укрепил свои связи с важными людьми общины. Вот и Даны уже нет на свете, и не такой уж старой она была, когда присоединилась к народу своему… Рефаяу неслышно вздохнул, вспомнив сестру и отца.
Самхияу всегда следил, чему именно учат его сыновей, всегда спрашивал их собственное мнение, а потом делился и своими мыслями, и не всегда они совпадали с тем, что говорили учителя, иудейские и местные, бавельские. Но как же так, отец? — растерянно спрашивал маленький Рефаяу. Своей головой думай, своей! — насмешливо говорил отец и легонько трепал его курчавые волосы. А когда, по всем законам, Рефаяу стал считаться мужчиной, отец, к тому времени уже терявший силы с каждым днем, рассказал ему свою настоящую историю — о детстве в Ган-Эле, что в земле Биньямина в Заречье, о раннем уходе из дома и бродячей жизни, о страшной войне при царях Цидкияу и Набу-куддури-уцуре, на которую он угодил, о чудесном своем спасении и новой жизни в Бавеле, а главное — о сделке, которую он заключил с тогдашними царедворцами, которые за деликатные услуги пожаловали ему многие милости, а именно: статус свободнорожденного и подправленную метрику. Так Рефаяу узнал, чего стоит принадлежность их семьи к роду левитов и что, на самом деле, в давние времена в Ерушалаиме таких, как они, называли презрительно — «изеры»… Юный Рефаяу было рассвирепел и сказал, что если так, то он более не считает себя сыном Иеуды, но отец остудил его: мудрый муж живет головой, а не сердцем, так сказал он. Используй с толком свое положение, используй все то, что досталось от меня — будь близок и к иудеям, и к сынам Бавеля, говори с каждым на его языке и чти их богов, будь своим и для тех, и для других, но не верь всему, что слышишь и видишь, живи своей головой. Береги себя, береги жену и детей, а остальное — как получится. Ты не в ответе за падение царств и воздвижение новых престолов, ты в ответе лишь за свой дом.
Рефаяу часто вспоминал эти слова отца, особенно после его смерти. Рефаяу тогда сделал все, как просил отец: он хорошо заплатил раб-бани за чтение заупокойной молитвы, приобрел могилу на иудейском кладбище, но сказал всем, что похороны, по желанию покойного, будут скромными, присутствовать будут только члены семьи. Наутро на участке появилась новая плита с соответствующей надписью на арамейском. Но под ней никого не было — накануне тело Самхияу из Ган-Эля сожгли в пределах юго-западного кладбища, которое называлось — «В Его Глубинах Рожден Закат», а следующей ночью сыновья развеяли прах отца над черными, маслянистыми в свете звезд волнами Перата. Великий Перат течет на юг, говорил Самхияу сыну, с трудом дыша, и я отправлюсь с ним туда, в сторону дома… когда-то, в Мицраиме[6], я разговаривал с одним мудрым книжником, и он говорил, что все воды, которые есть в нашем мире связаны друг с другом… сегодня они в Перате, а завтра тот же самый глоток воды ты выпьешь из Ярдена[7]… или из ручья на дне ущелья рядом с Ган-Элем… Я поплыву туда и, может быть, окажусь в том самом ручье, и прорасту зеленой травой недалеко от родного дома…
Годы шли, и совсем недавно Рефаяу вот так же, по секрету, поведал рассказ отца своему старшему сыну, Ахикаму. Ахикам выслушал семейную историю спокойно, без эмоций — он был хладнокровный и рассудительный не по годам, и Рефаяу был спокоен за будущее своего дела с таким избранным сыном. Когда отъезд экспедиции Зерубавеля был уже делом решенным, Рефаяу взял Ахикама с собой в Дом Учителя, представил его всем раб-бани, будущему Первосвященнику, ну и князю иудейскому заодно.
— Почему мы должны тратиться на этих странных людей? — спросил Ахикам, когда они вернулись домой. — Что нам за дело до храма в какой-то далекой провинции?
Рефаяу молча поманил его пальцем в свою комнату, снял с полки плоскую доску обожженной глины, положил на стол, поставил рядом две лампы с коптящей напту, чтобы лучше видеть. В центре доски были вырезаны несколько концентрических кругов, от которых отходили восемь симметричных треугольников.
— Это изображение нашего мира, составленное книжниками Эсагила, — объяснил отец сыну. — Копии этой таблички отосланы в Ниппур, Сиппар и другие города. Поверь мне, она обошлась нашему дому недешево, но тот, кто владеет настоящим, а не сказочным знанием — тот владеет миром.
Рефаяу взял эт[8] и стал водить им над глиняной доской, не касаясь ее поверхности:
— Внешний круг — это соленые воды, которые окружают наш мир. Треугольники — это горы, зиккураты, построенные в далеких землях богами, много выше тех, что воздвигли здесь народы Бавеля.
Рефаяу указал на один из треугольников:
— На склоне этой горы до сих пор лежат остатки ковчега, на котором спасся от потопа Утнапиштим, историю которого ты читал в школе в храме Мардука, помнишь? Теперь смотри, — и Рефаяу показал на левый нижний угол таблички, — примерно здесь находится Заречье, а еще дальше, вниз — Мицраим. На берегах соленых вод живут плиштим, соседи и вечные враги иудеев и израильтян. Если удастся договориться с ними — караванам откроется морской путь на Мицраим. Если нет — спокойный путь по дорогам Израиля и Иудеи тоже стоит многого. А что такое Храм в Ерушалаиме? Это место, в котором будет огромный спрос на благовония, специи, драгоценные металлы и камни. Вообрази себе алтари, на которых ежедневно забивают десятки быков и овец. Целые ямы гниющих потрохов, да пока их сожгут… все это благоухание надо чем-то заглушать, негоже служить Царю Мира посреди смрада… И, если Храм будет восстановлен, угадай, кто обеспечит доставку всего необходимого по заказам мужей Великого Собрания?
В глазах Ахикама вспыхнул огонек понимания — теперь и он видел дальние перспективы начинающегося предприятия.
— Каждый шекель золота и серебра, вложенный сегодня в затею коэна Йоцадака, в будущем окупится сторицей, — задумчиво сказал Ахикам.
— Верно мыслишь, — одобрительно сказал Рефаяу. — Поэтому держись влиятельных людей общины и пускай они считают тебя праведником. Не так уж много от тебя и потребуется для этого, — и Рефаяу подмигнул сыну и потрепал его по жестким курчавым волосам, как часто делал, когда Ахикам был маленьким.
[1] Заречье — условное обозначение библейских земель Израиля и Иудеи, расположенных к западу от Евфрата, с точки зрения Месопотамии и Персии. В персидской административной практике называлось Эвер ха-Нахар (עבר הנהר) — «по ту сторону реки» (Езд. 4:10). Этот термин подчёркивает пограничный и подчинённый характер региона в глазах восточных империй, но также его значение как связующего звена между Востоком и Средиземноморьем.
[2] Саппату — (аккад. šapattu) — в вавилонском календаре это пятнадцатый день лунного месяца, приходящийся на полнолуние. Считался днём повышенной религиозной значимости, в который следовало воздерживаться от определённых действий — работы, приготовления пищи, врачевания и т.п. Этот день воспринимался как время умиротворения богов и потенциальной опасности, требующей особой ритуальной осторожности.
Некоторые исследователи высказывали гипотезу, что иудейский Шаббат (שבת) — седьмой день недели — мог эволюционировать из этого месопотамского обычая, хотя в иудейской традиции шаббат связан не с лунным циклом, а с божественным установлением ритма Творения (Быт. 2:2–3). Таким образом, между вавилонским саппату и иудейским шаббатом прослеживаются возможные структурные параллели, но они принадлежат разным культурным и календарным системам.
[3] Сикера — (ивр. שֵׁכָר, шехар) — слабоалкогольный напиток, получаемый путём брожения сахаров, содержащихся в ячмене, финиках, мёде или других плодах. В Танахе часто упоминается вместе с вином (например, Лев. 10:9; Чис. 6:3), иногда в контексте запрета на употребление для священников и назирейцев. Аналоги сикеры были распространены по всему древнему Ближнему Востоку, включая Месопотамию.
[4] Эсагила — (шумер. É-sag-íla — «Дом, возвышенный во главе») — главный храм бога Мардука в Вавилоне (Бавеле), религиозный и ритуально-политический центр города. Здесь проводились ключевые обряды, включая акиту — новогодний праздник, во время которого происходил ритуал подтверждения власти царя. Эсагила была неотъемлемой частью храмового комплекса, включавшего зиккурат Этеменанки.
[5] Этеменанки — (шумер. É.TEMEN.AN.KI — «Дом фундамента неба и земли») — зиккурат, расположенный в центре Вавилона, традиционно отождествляемый с вавилонской башней из Книги Бытия (Быт. 11:1–9). Являлся символом связи между земным и небесным мирами. Его высота, по античным описаниям, достигала 7 ступеней и около 90 метров. Здание играло роль как культовую, так и идеологическую — выражало власть Мардука и централизованность вавилонской культуры.
[6] Мицраим — (ивр. מִצְרַיִם) — библейское название Египта. Форма двойственного числа может отражать географическое деление страны на Верхний и Нижний Египет. В Танахе Мицраим выступает как символ и рабства (Исход), и могущественного царства, с которым Израиль вступал в дипломатические и военные отношения.
[7] Ярден – река Иордан.
[8] Эт (את) — в современном иврите означает «ручка» или «пишущий инструмент». В библейском контексте (например, Иер. 8:8) עט סופר — «перо писца» — обозначает тростниковую или деревянную палочку, которой писали чернилами на пергаменте или папирусе. Этот предмет был важной частью повседневной культуры письма в Древнем Израиле. Следует отличать его от вавилонского стилуса, использовавшегося для клинописи на глиняных табличках.

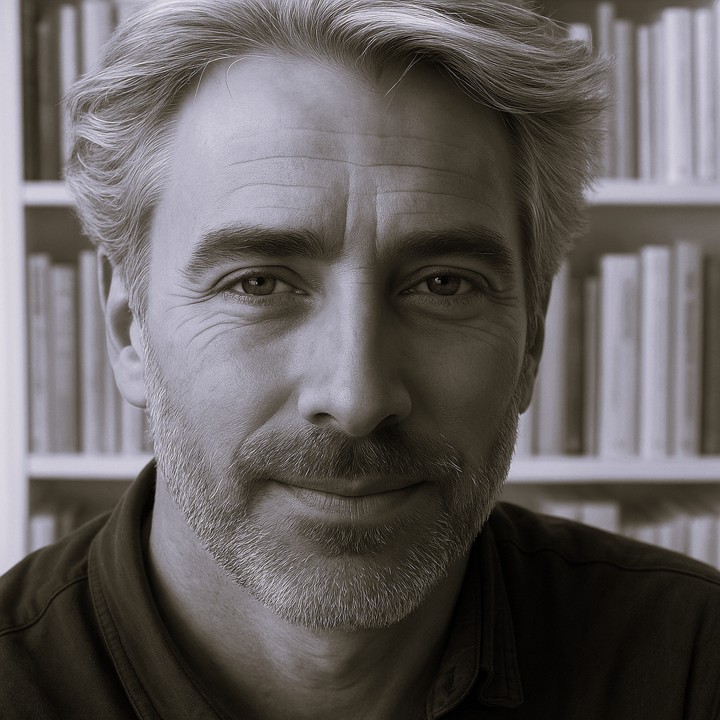


Добавить комментарий